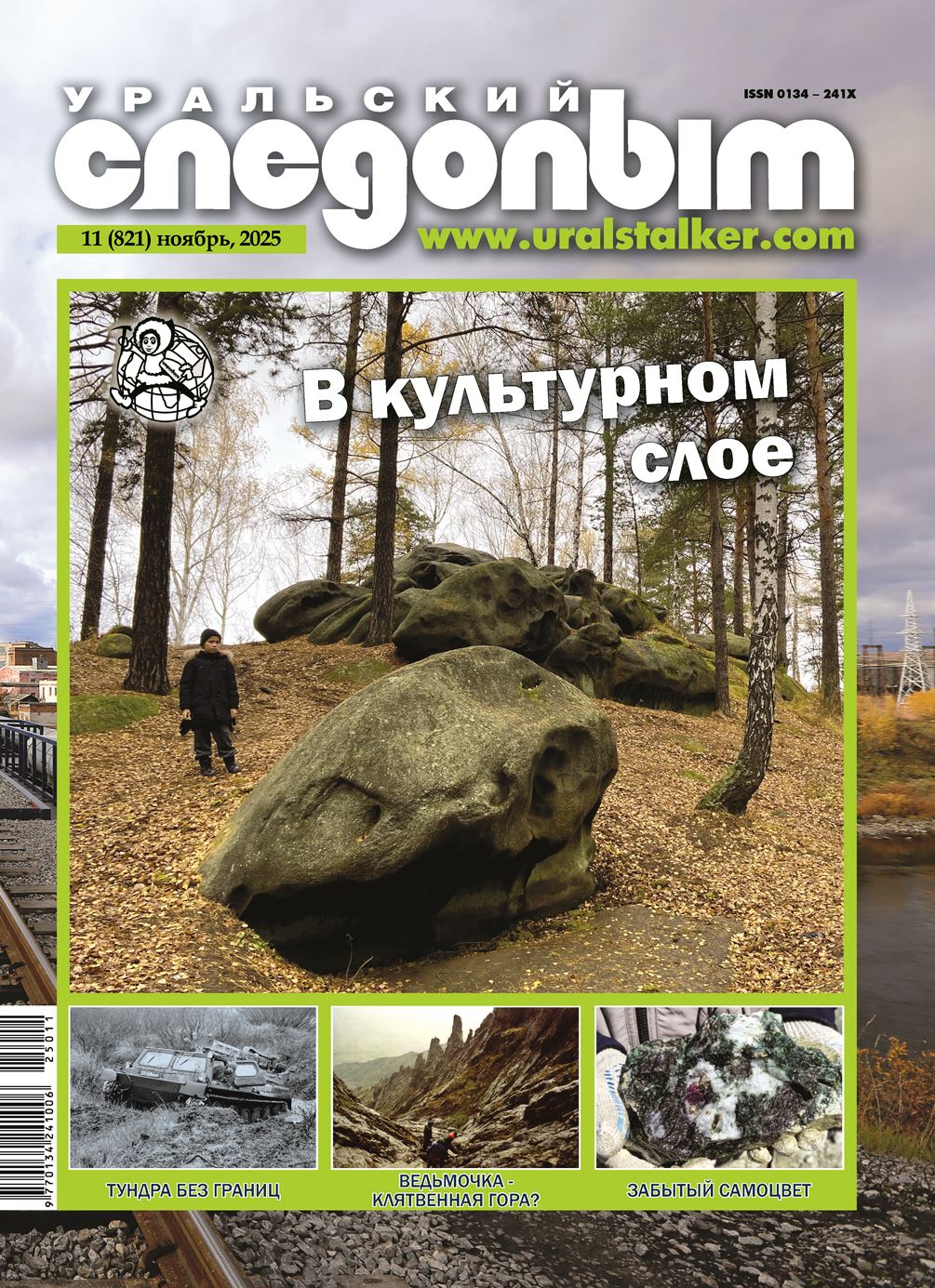Так говорили более века назад в Черемисской волости, когда кому-то младшему предписывалось посидеть дома

Моя прабабушка Анастасия Андреевна Чеснокова (урождённая Ширинкина) родилась в деревне Узяновой Черемисской волости Екатеринбургского уезда Пермской губернии в 1892 году. . Точную дату своего рождения она не помнила. В середине 2000-х годов, занявшись историей своего рода, в метрических книгах Богоявленского храма села Черемисского, хранящихся в Государственном архиве Свердловской области, я обнаружил нужную информацию. Анастасия Андреевна родилась 7 марта 1892 года в семье Андрея Григорьевича и Марии Ионовны Ширинкиных. Первый ребёнок – старшая дочь Аполлинария родилась десятью годами ранее – в декабре 1882 года. За ней последовали несколько сыновей (трое из них умерли в детском возрасте).
Её отец, Андрей Григорьевич Ширинкин, согласно метрическим книгам родился в 1851 году. В январе 1882 года женился на «Черемисского села крестьянской дочери девице Марии Иониной Ильиных». (фото 2, 2.1. Село Черемисское. Современный вид. Фото из фондов Черемисского музея) В книге он записан как «солдат». А вот в 1892 году в записи о рождении дочери Анастасии он назван как «деревни Узяновой Унтер-Офицер». Возможно, А.Г. Ширинкин был отставным военным.
Сама прабабушка вспоминала, что её отец был «каким-то начальником». В доме часто организовывались застолья. В середине избы на длинных столах в ряд были выставлены домашние пироги и другое угощение – такая картина запомнилась прабабушке. Не раз отец с гостями приезжал поздним вечером и будил дочерей: «Девки, пляшите!»
Грамоте отец дочерей не учил, и на всю жизнь Анастасия Андреевна осталась неграмотной, умела только расписываться в документах. В начале 1960-х годов началась очередная кампания по ликвидации неграмотности. По домам ходили учительницы местных школ, опрашивая население, умеют ли читать, писать. Прабабушка ответила, что неграмотна. Учительница посмотрела на неё и сказала: «А вы, бабушка, уже старая. Таких мы не учим». «Решили, наверно, – рассказывала впоследствии прабабушка, – что до коммунизма я не доживу».
Вместо обучения грамоте дочери помогали по хозяйству. Жили богато, держали скотину (не знали даже точного количества кур). Дом был большой, а огород ещё больше, по нему Аполинария и Анастасия утром и вечером бегали с вёдрами за водой к речке, чтобы напоить скотину. (фото 3. Дом в деревне на ул. К. Либкнехта, где проживала А.А. Чеснокова в 1950–60-е годы. Фото Ю. Суворовой)
Обнаруженный мной в областном архиве план деревни Узяновой 1889 года подтверждает рассказ прабабушки. Деревня состояла тогда из 45 домов, выстроенных линией по обе стороны единственной улицы – дороги из села Черемисского. ( фото 3.1. Дорога на покос. Фото Ю. Суворовой) Крайний дом со стороны села принадлежал Ширинкиным. На плане дом изображён в виде большого квадрата, его фасад выходит на улицу, а с обратной стороны – огород в виде вытянутого прямоугольника спускается к реке. (фото 3.2. Дорога на Нижний Тагил. Фото Ю. Суворовой)
В 17 лет Анастасия вышла замуж за крестьянина села Черемисского Ивана Чеснокова. Отец не дал согласия на брак (семья мужа была бедной), за ослушание лишил дочь приданого, но всё-таки подарил молодым корову и не присутствовал на свадьбе. Метрические книги вновь подтверждают рассказ прабабушки: на венчании поручителями (говоря современным языком, свидетелями) со стороны жениха и невесты были только родственники мужа.
Жили бедно. Родились дети: в 1914 году – Дмитрий, в 1916 году – Параскева (Прасковья). Рождения дочери отец не увидел – он находился на фронте Первой мировой, где и погиб (пропал без вести). В годы Великой Отечественной войны сын Дмитрий повторит судьбу отца – он также не вернётся с фронта. Став вдовой в 24 года, Анастасия Андреевна вышла замуж вторично, родилась ещё одна дочь Александра. С юных лет дети помогали по хозяйству, как и мать, оставшись неграмотными (выучились грамоте уже в зрелом возрасте). Старшая Прасковья была отдана в зажиточную семью из соседнего села в няньки. (фото 4. Невьянск начала XX века. Фото из фондов Невьянского государственного историко-архитектурного музея) (Фото 5. Летняя сцена в городском парке 1930-х годов. Фото из фондов Невьянского государственного историко-архитектурного музея)
В начале 1930-х годов переехали в Невьянск. Из села Черемисского шли пешком, в узелке несли немудрённый скарб, и вели корову – единственное богатство в крестьянском хозяйстве. Было жарко, и возле какого-то колодца остановились, облились водой, а заодно облили и корову. От перепада температуры корова вскоре издохла. «Вот бестолковая», – вспоминая этот случай, до конца жизни корила себя прабабушка. Всю свою жизнь Анастасия Андреевна была домохозяйкой, в результате чего ей начислили самую маленькую пенсию – 27 рублей. Помогала семья старшей дочери Прасковьи Ивановны. Прабабушка жила с ними, а после свадьбы внука зять купил ей отдельный небольшой дом. В январе 1981 года в возрасте 88 лет Анастасия Андреевна Чеснокова ушла из жизни. (фото 6. Центральный городской универмаг 1950-х годов (бывший Гостиный двор). Фото из фондов Невьянского государственного историко-архитектурного музея)
Предлагаемый ниже небольшой список старинных слов и выражений из лексикона прабабушки составлен моей мамой Галиной Николаевной Карфидовой, в детстве много с ней общавшейся. Думаю, большая их часть была воспринята прабабушкой от своего окружения (родных, друзей) в детстве и юности, когда она жила в деревне Узяновой. Некоторые слова, возможно, вошли в её речь позже – в селе Черемисском или уже в Невьянске. (Фото 7, 8. Невьянские улицы 1950-х годов. Фото из фондов Невьянского государственного историко-архитектурного музея)
Из лексикона Анастасии Андреевны Чесноковой (1892–1981), уроженки деревни Узяновой.
Азям (язям) – тулуп (зимняя верхняя одежда). Бадок – трость, костыль, палка для ходьбы. Баской – красивый. Блазнит – кажется, чудится, мерещится. Вехотка – мочалка. Водянка – бочка для питьевой воды. Выходцы – домашние тапки. Голик – веник. Елань – поляна в лесу. За жилом, на запольках – за городом, за селением. Заплот – забор, деревянная ограда (в таком значении слово упоминается и в словаре В.И. Даля). Из избы ни вон – сидеть дома. Литовка – распространённое не только в Черемисской волости название косы. Лохань – ведро для помоев (интересно, что в справочниках русского быта указано, что так в старину называлась посуда для стирки белья). Лыва – большая лужа (такое же название приведено и в словаре В.И. Даля). Нали – даже. Натропник – половик в доме. Непоче – незачем. Нерассветай – пасмурный день. Ни у шубы рукав – дело ещё не сделано, даже не начато. Оболокаться – одеваться. Повети – крытое место, навес над хлевом. Полуденка – дух, живущий в огороде (по аналогии с домовым и лешим). Пылевик – плащ. Стайка – помещение для домашнего скота. Тенёта, тенето – паутина. Тенятник, мизгирь – паук. Шишига – мочалка для мытья внутри бани (а в словаре В.И. Даля так назван дух, живущий в бане, по аналогии с домовым). Шубенки – варежки, рукавицы. И ещё несколько пословиц, услышанных от прабабушки. В копнах не сено, в долгах не деньги. Всяк пьёт, да не всяк крякает. Где коротеньки носки (носы), там девчоночки баски. Дорого яичко ко Христову дню. Надолго ли собаке блин. Напоила молоком, прогонила голиком (веником). Недосол на столе, а пересол на спине. С миру по нитке – голому рубаха. Суха-то ложка рот дерёт. Твоё дело телячье – поел да и в стойло. У тебя, как у Гаёва, ничего нет своёва. (Можно предположить, что эта пословица, в отличие от предыдущих, родилась именно на Среднем Урале, фамилия Гаёвы была очень распространена среди демидовских мастеровых, в Невьянске и Нижнем Тагиле она встречается до сих пор). Шпын-голова поезжай по дрова, а гладенька головушка на печке сиди.
Нет-нет, да и вспомнится иной раз какое-то меткое выражение из прабабушкиного лексикона, а с ним и её образ. Значит, память о ней жива…
Вернуться в Содержание журнала