
Укрывшись в тени тополей от июльского зноя, я неторопливо прогуливался по скверу.
Синоптики не обманули с погодой. Вторую неделю жара, как в Африке. Сейчас бы махнуть куда-нибудь за город, подальше от этой «Сахары». Окунуться с головой в прохладу озера или реки…
Я достал из кармана платок, вытер пот. Посмотрел на часы. Скоро одиннадцать, а клиента всё нет. Неужели он передумал?
Как бы подтверждая мои сомнения, пропел мобильник. Звонил тот, кого я ждал. Клиент вежливо извинился, объяснив, что не сможет прийти. Я вздохнул, знал бы он, от чего только что отказался!
Выйдя из сквера, я остановился около перекрёстка.
Не люблю брать деньги за свои услуги, но приходится. Вот и сейчас такое ощущение, будто я кого-то обманул. Хотя на самом деле всё честно. Осталось только вернуть задаток клиенту, но это уже завтра.
От размышлений меня отвлёк резкий визг тормозов и громкие гудки машин.
На дорогу неожиданно выскочил кучерявый белобрысый мальчишка. На вид не старше семи лет. «Тут же такое движение, не перейти!», – мелькнула мысль в голове.
Вижу, как прямо на мальчишку надвигается огромный, грохочущий грузовик. Чёрное чудовище издало громкий рёв, пытаясь предупредить. Мальчишка оглянулся. И вместо того, чтобы отскочить назад, беспомощно замер на месте.
Бросаюсь к нему! На мгновение темнеет в глазах. Зрение тут же возвращается. Вижу окружающий меня мир, но как же он изменился!
Куда-то пропали все звуки. Как по команде умолкли моторы проезжающих машин. Дорожный поток словно завис. Осталась лишь звенящая тишина, как будто я очутился далеко за городом…
Медленно, словно преодолевая повышенную гравитацию, я снова шагнул в сторону дороги, потом ещё. Ощутил, каким тугим и упругим сделался воздух.
Мальчишка стоит рядом, только руку протяни. Первая попытка не удаётся. Покачнувшись, я с трудом удержался на ногах, едва не упав. Отдышавшись, предпринимаю вторую. На этот раз получается! Рукой хватаю пацана за плечо. Повернув голову, бросаю взгляд на грузовик, машина застыла совсем близко, в каком-то метре от нас. Рывком выхватываю мальчишку, и мы вдвоём оказываемся на тротуаре.
Спустя мгновение город оживает. Огромный тягач, трубя паровозным гудком, останавливается. Из окна кабины высовывается лысая голова водителя.
– Живы? – громко орёт он, стараясь перекричать ревущую дорогу.
Я молча киваю в ответ.
– Следить надо за ребёнком, папаша!
Взревев мотором, грузовик вливается обратно в поток машин.
– Ты как? – осматривая пацана, тихо спрашиваю я.
– Я ничего.
– Зачем же так рисковать? Переход же рядом!
– Я в аптеку торопился, мама болеет…– опустив голову, объясняет мальчишка.
– Идём!
Я взял его за руку. Вместе мы перешли дорогу по переходу, и зашли в аптеку.
Проверив рецепт, продавец назвал сумму. Мальчишка сунул руку в карман, достал и пересчитал деньги. Посмотрел на продавца, ждущего за прилавком. Потом обернулся ко мне. В его глазах мелькнула просьба о помощи.
– Не хватает? – я решительно достал из кармана бумажник. – Погоди, сейчас добавлю!
– Спасибо! – кивнул мальчишка.
Купив лекарство, мы вышли из аптеки.
– Как тебя зовут? – спросил я.
Вопрос немного смутил пацана.
– Миша…
– Надо же, – улыбнулся я неожиданному совпадению. – Больше не бегай через дорогу, тёзка!
– Не буду! – пообещал мальчишка и тут же припустил на ту сторону улицы, увидев зелёный сигнал светофора.
Я немного задержался.
Чувствуя нарастающую жажду и усталость, купил в киоске бутылку воды. Заметив рядом в тенёчке свободную скамейку, присел отдохнуть. Переход через соседнее измерение отнял много сил. Да и возраст уже не тот. И вообще! О чём я думал? Достаточно просто пройти в соседний мир, подождать час, а затем вернутся за пару минут до появления мальчишки. Как же я сразу не сообразил? Ведь всё так просто решалось… Однако, старею!
Открыв бутылку, с наслаждением напился. Устроившись поудобней, закрыл глаза. Вспомнил, как это было у меня в первый раз. Сколько же лет прошло? Много, почти сорок!
Город…
В первый раз я попал туда в далёком детстве. Я только пошёл во второй класс. Ростом я не вышел, и совсем не тянул на свои полные восемь лет.
Хорошо помню тот осенний октябрьский день. Мать послала меня в магазин за хлебом.
– На улице прохладно, надень куртку и шапку, – велела она. – Смотри, не опоздай, в магазине скоро обед!
Я быстро собрался. Спрятал в карман брюк деньги – бумажный рубль, сунул туда же авоську и выбежал во двор.
Только что прошёл дождь. По небу ползли низкие серые тучи. Дорожки и тротуары в опавшей листве. Посреди детской площадки разлилась огромная лужа. Около воды сидел на корточках соседский Андрейка.
– Мишка! – заметив меня, обрадовался он. – Айда ко мне, кораблики делать!
– Я сейчас, только за хлебом сбегаю!
Идти недалеко, всего квартал, потом повернуть за угол и…
Я резко остановился, увидев впереди компанию – троих старшеклассников во главе с высоким, смуглым и темноволосым парнем по кличке Хан.
По слухам, он когда-то неудачно спрыгнул с вагона товарняка, катаясь на проходящих поездах. Нога зажила, но хромота осталась. Когда и за что парня так окрестили, я не знал, но прозвище ему очень шло. А вместе с кличкой парень приобрёл в определённых кругах славу известного хулигана и шпаны.
Я медленно попятился назад, но бежать поздно, компания меня уже заметила.
– Миша! – улыбнулся Хан. Остальные при виде меня громко загоготали. Дружки Хана неторопливой походкой приблизились, окружив несчастную жертву. Последним, прихрамывая, подошёл сам Хан.
– И что у нас есть? – нетерпеливо спросил он.
– Ничего, – испуганно пробормотал я.
– А мы сейчас проверим! – Хан окинул меня внимательным взглядом. – А ну, попрыгай!
Я нехотя повиновался.
– Пустой! – разочарованно хмыкнул один из парней.
Мне отвесили подзатыльник и отпустили.
На дрожащих ногах я завернул за угол. Немного постоял, перевёл дух, а потом забежал в булочную. Выбрал там большой мягкий батон и буханку серого. На кассе с бумажного рубля мне сдали пару двугривенных и много меди. В дверях магазина я остановился и задумался. Идти прежней дорогой нельзя, обязательно снова нарвусь на компанию Хана. Я решительно повернул в противоположную от врагов сторону. Мне предстояло пройти вдоль длинного дома. В этой девятиэтажке куча подъездов и несколько арок, а жильцы называли её китайской стеной. Добравшись до арки, я свернул туда и оказался в широком дворе. Оставалось подняться в горку, поворот направо, и я почти дома, где никто не посмеет обидеть.
Мои планы нарушил пронзительный свист. Оглянувшись, я сначала не поверил глазам!
Надо же, какое невезение! Хан с дружками тоже решил прогуляться вдоль китайской стены. Двое парней, увидев меня, уже бежали напрямик, чтобы перехватить на повороте перед домом. Остальные шли следом неторопливой походкой.
Куда деваться? Я помчался вперёд, прямо туда, где начинался лабиринт металлических гаражей.
– Стой! – крикнул за спиной Хан.
Он плохо бегал из-за хромоты, а гаражи уже рядом. Я с разгона пролез в щель между двух железных углов. Играя с друзьями, мы давно облазили всё вокруг. И я хорошо тут ориентировался, но сейчас проход вывел меня к высокому деревянному забору. С двух сторон к нему плотно прижимались коробки гаражей, а по верху шла колючая проволока. Дальше дороги нет, тупик!
– Никуда он не денется, посидит, и сам выйдет, а мы подождём!
Дружный хохот одобрил слова Хана.
Как же выбраться? Можно попытаться позвать кого-нибудь на помощь. Но сейчас день, все на работе.
Вот если бы научиться, как в сказке про одного волшебника. Превратился бы я в кого-нибудь поменьше, и выбрался в щель между забором и гаражом. Я в отчаянии попытался пролезть туда. Но сразу же ободрал кожу на руке. Слишком узко для меня. Тогда я стал ощупывать доски в заборе. Они все оказались крепко прибитыми и не поддавались. Как же хотелось взять и пройти сквозь эту деревянную стену, а ещё лучше – перепрыгнуть через гараж. В сказках всё очень просто. Раз – и ты уже далеко–далеко, за тридевять земель. А враги побеждены и разбиты. Вот бы и мне так! Снова проверил доски. Ничего!
Меня охватил страх. Я совсем пал духом, слёзы тут же напомнили о себе. Шмыгая носом, я размазывал их по щекам.
– Братва, у меня идея! – донёсся из-за гаражей голос Хана. – А не послать ли нам воздушную разведку?
Я понял, они собираются залезть на гаражи, видимо устали ждать. Дёрнул одну из досок. Крепкая! Перешёл к соседней. Изо всех сил потянул её на себя, доска тихо затрещала. Или мне показалось? Ещё раз дёрнул. Правая ладонь сорвалась, в палец впилась острая злая заноза. Вытащил, и, посасывая ранку, услышал приближающийся грохот железа.
В отчаянии пытаюсь расшатать доску, но она по-прежнему не поддаётся. Из последних сил наваливаюсь на доску всем телом.
И вот тогда это и случилось…
Стих грохот железа над головой. Показалось, воздух вокруг окаменел. А доска неожиданно легко поддалась, и сдвинулась вбок, открыв путь к спасению.
Я со скоростью черепахи начал протискиваться вперёд, чувствуя, как на теле прибавляется царапин. Голова кружилась, а воздух продолжал сопротивляться. Ещё немного и вдруг я кубарем вывалился за забор.
Упал я удачно, ничего не ушиб. Сижу на земле, зажмурившись от яркого солнца. Постепенно глаза привыкают, осматриваюсь по сторонам. Вижу перед собой высокое дерево. Рядом ещё один такой же гигант, ствол не обхватить. Чего-то не припомню, чтобы рядом с нашим двором росли такие старые клёны. Тем более, сейчас осень, а они совсем зелёные. И где же забор?
Поднимаюсь с земли и оказываюсь посреди какого-то парка. Совсем не по-осеннему припекает и греет солнце. С удивлением смотрю на изумрудно-зелёную траву под ногами. В ней полно золотистых ярких одуванчиков. Они давно должны отцвести и разлететься белым десантом парашютиков. А тут их так много, как будто сейчас начало июня, а не октябрь. Что за чудеса?
Неподалёку начинает играть музыка. Выбираюсь из травы на тропинку и медленно бреду на звуки аккордов. У кого бы спросить дорогу?
Деревья расступаются. Впереди сцена, на ней живой оркестр играет старинный вальс. Перед музыкантами в танце кружатся пары.
Я останавливаюсь, не зная, куда дальше. Кто-то осторожно трогает меня за плечо. Оглядываюсь.
– Мальчик, тебе не жарко? – спрашивает невысокая, сухонькая старушка в очках. Одета она совсем по-летнему: в лёгком платье, на голове ситцевый платок в сине-белый горошек.
– Я за хлебом ходил, – вежливо объясняю ей. – Я тут рядом живу. Улица Комсомольская, знаете?
– Комсомольская? – переспрашивает старушка. – Чего-то не припомню!
Она некоторое время разглядывает меня, потом с тревогой в голосе спрашивает:
– Где ты так пострадал? Ты же весь исцарапан!
– Мне надо домой, меня мама ждёт! – отвечаю я невпопад.
Старушка качает головой.
– А ну, идём со мной, да не бойся, я не кусаюсь!
Она хватает меня за руку и ведёт к выходу из парка.
Наша прогулка не заняла много времени.
Я с удивлением смотрел по сторонам, не узнавая родных мест. Куда подевались широкие улицы с многоэтажными кварталами? Вместо них мой взгляд всюду натыкался на низкие двухэтажные дома. А многие из них были и вовсе одноэтажные и деревянные.
Мы прошли по узкой, заросшей акациями и клёнами, улице. Свернули в маленький уютный двор. Остановились перед входом в подъезд двухэтажного ярко-жёлтого домика. Слева и справа я заметил два таких же, только окрашенных в серый цвет.
– Вот тут я и живу, – улыбнулась старушка. – А зовут меня Анастасия Петровна.
Первое, что сделала Анастасия Петровна – смазала мои болячки прозрачной жгучей жидкостью из небольшого пузырька. Потом, оставив меня в комнате, вышла на кухню.
Пока старушка гремела там посудой, я немного осмотрелся. Напротив меня стоял высокий старинный буфет с резными дверцами. Рядом в углу примостилась чёрная швейная машина «Зингер». Я видел такую же в гостях у маминой тёти. За спиной на стене громко тикали ходики.
Тем временем вернулась старушка с кухни. На столе, как по волшебству, появился большой пузатый самовар, вазочка с печеньем и банка варенья.
Мы сели пить чай с ароматным земляничным вареньем.
– Ну, добрый молодец, куда путь держишь? – в шутливом тоне спросила хозяйка.
– Домой, – ответил я, прихлёбывая из чашки очередную порцию варенья.
– Это я уже знаю! – махнула рукой Анастасия Петровна. – На дворе лето, мальчишки в шортах и футболках бегают, а ты в тёплой куртке и штанах. Давай, выкладывай, как попал в наши края.
Вздохнув, я кратко поведал, как пошёл в булочную. Потом о встрече с ватагой Хана. Когда добрался до забора, старушка одобрительно кивнула головой.
– Все ясно! Ты прошёл через барьер.
– Что за барьер? – не понял я.
– Как бы тебе объяснить проще, – Анастасия Петровна встала из-за стола, прошлась по комнате, потом вернулась, снова села рядом со мной. – Наш город не совсем обычный. Он находится на перекрёстке пространств. И попасть в него может далеко не каждый. Тебе повезло, сумел в трудную минуту открыть проход между мирами. Очень редкий дар! У нас таких людей называют проводниками. Они могут не только попасть в город сами, но и провести с собой кого-нибудь ещё.
– А зачем? – спросил я, болтая ногами.
– Иногда человеку угрожает опасность, или он совершил серьёзную ошибку, а тут у нас можно всё исправить. Город всегда помогал. Но иногда он может и наказать.
– Прямо как в сказке! – подметил я.
– Ты прав! – Согласилась старушка. – Я и сама, сколько лет тут живу, а так и не привыкла к местным чудесам! Я ведь не всегда была такой, раньше в школе географию преподавала. Молодая, красивая и интересная! Учила вашего брата. А город наш, отродясь, славился разными загадками. То метеорит с неба упадёт, то археологи городище откапают, древнее, чем пирамиды в Египте.
Я слушал Анастасию Петровну, а в голове крутились разные мысли. Хотелось ещё посмотреть на необычный город, погулять тут. Когда ещё представится такая возможность. И тут же думал про маму. Она наверно уже хватилась и ищет меня…
– Ты, наверное, хочешь вернуться? – спросила Анастасия Петровна.
– Ага, меня мама дома ждёт, – кивнул я.
Старушка посмотрела на часы.
– Успеем! До полудня ещё есть время.
Допив чай, мы вышли во двор. Миновали маленький сквер с кустами сирени и черёмухи. И оказались на улице.
Я посмотрел на табличку: улица «Янтарная», «Три».
– Запомнил адрес? – спросила Анастасия Петровна.
– Ага!
– Будешь ещё у нас в городе, заходи в гости!
Тем временем мы подошли к трамвайной остановке.
– Сейчас подойдёт вагон, сядешь в него, доедешь до конечной. Там дождёшься седьмого трамвая, а дальше сам найдёшь дорогу.
Совсем скоро, громко звеня, к остановке подкатил старый, деревянный одновагонный трамвай. У нас такие в городе совсем не ходили. Их давно списали, как отслужившие свой век.
– До свидания, – помахал я Анастасии Петровне в окошко.
Трамвай тронулся, а я с интересом стал смотреть по сторонам. Народу в вагоне оказалось мало. На переднем сидение устроился старичок с палочкой. Развернув газету, он углубился в чтение. Напротив меня сидели парень с девушкой, они о чём-то тихо шептались. Остальные места пустовали.
Проехав перекрёсток, трамвай остановился.
– «Садовая»! – громко объявил вагоновожатый. – Следующая – «Степная».
Я посмотрел в окно и увидел, что вагон по-прежнему едет по узкой улице. Дорога и тротуары вымощены камнем. Дома тут стояли совсем старые, одноэтажные. Многие украшены барельефами и лепниной. Навстречу прозвенел такой же деревянный трамвайчик.
Вагон проехал ещё несколько старинных кварталов, затем неожиданно свернул и выехал на широкую площадь. Посреди неё возвышалась башня с часами. На шпиле купола я успел заметить блестевшую на солнце позолоченную пятилучевую звезду.
– «Звёздная площадь»! – услышал я голос водителя. – Следующая – «Отрадная».
Остановка оказалась прямо напротив башни. Я глазел на огромный циферблат. Часы шли. Большая стрелка почти наползла на число «двенадцать», минутная показывала без четверти час.
Я тут же вспомнил слова старушки. До полудня осталось всего ничего. Интересно, что будет, если опоздаю?
Трамвай сделал ещё пару остановок. Потом водитель громко объявил:
– Следующая – «Объездная», конечная!
Прогромыхав по небольшому мосту через речку, вагон выехал за город. И тут же остановился. Дверь в кабине открылась. Оттуда выглянул водитель.
– Мальчик, тебе на «седьмой»? – спросил он. – Тогда вылезай, вагон идёт в парк!
Я послушно вышел. Трамвай закрыл двери, и, звякнув на прощание, развернулся на небольшом кольце. Вагон тронулся обратно в город, а я остался на остановке. Очень скоро с другой стороны с дребезжанием подкатил ещё один трамвай. Я увидел цифру «семь» над кабиной водителя. Как только открылись двери, я тут же забрался в вагон и сел на заднее место в самом конце.
Водитель громко объявил, что трамвай пойдёт по седьмому маршруту. Меня он, казалось, не заметил.
Двери закрылись, и мы поехали.
Я внимательно смотрел в окно, стараясь не прозевать родные места.
Неожиданно в глазах потемнело, трамвай слегка тряхнуло. Темнота тут же пропала, а я увидел за окном знакомую картину. Мы ехали по улице Кирова. Красные пятиэтажные кирпичные дома я сразу узнал!
– Остановка «Кирова», следующая – «Железнодорожный вокзал». – Громко объявил водитель.
Сказка кончилась, я снова оказался в родном городе. Через одну остановку мне выходить. Ох, и попадёт сейчас от мамы! Что же я ей скажу, как объясню, где пропадал всё это время?
Запыхавшись, я остановился посреди нашего двора. Сквозь низкие тучи неожиданно проглянуло солнце. Подул тёплый ветерок, напоминая о позднем бабьем лете. На другой стороне около четырёхэтажного дома лихо орудовал метлой дворник. Листьев нападало много. И он старательно подметал золотистый ковёр, собирая его в большую кучу. Я посмотрел на дворника, задумался, а потом подбежал к нему.
– Дядя Вась!
– Что тебе, Мишутка? – спросил дворник, разглядывая меня серыми серьёзными глазами из-под мохнатых бровей.
Я быстро рассказал ему про Хана.
– Вот, зараза! – громко выругался дядя Вася. – Колония по нему плачет! Сейчас они у меня получат!
Василий решительно направился в сторону хлебного магазина.
Некоторое время ничего не происходило. Заинтересовавшись, я осторожно выглянул из-за угла.
Я увидел, как вдоль китайской стены пробежали четверо. Отбежав ещё немного, парни остановились. Один из них потёр пострадавшее ниже спины место, с досадой сплюнул на асфальт. Посовещавшись, они двинулись вдоль дома в сторону ближайшей арки. А спустя всего минуту оттуда вышел мальчишка в такой же, как у меня, темно-синей болоньевой курточке. На голове у него виднелась знакомая вязаная шапочка, а в руке авоська с хлебом. Завидев мальчишку, один из парней громко свистнул.
Открыв рот, я смотрел, как компания Хана преследует второго меня.
– Порядок! Всыпал им по первое число! – снимая грязные рукавицы, сообщил вернувшийся Василий.
– Спасибо! – поблагодарил я его и поспешил домой.
Торопливо вбежал в подъезд. Распахнул дверь нашей квартиры и в тревожном ожидании замер на пороге.
Услышав шаги, с кухни выглянула мать.
– Уже сходил? – удивилась она. – Какой молодец! Раздевайся, и мыть руки. Сейчас будем обедать!
Только тут я посмотрел на часы в комнате. Они показывали ровно двенадцать часов! Так закончилось моё первое путешествие за барьер в город…
Я отвлёкся от размышлений и открыл глаза, услышав странные, необычные звуки. Сначала не понял, что происходит. Но потом заметил на соседней скамейке женщину. Она сидела, закрыв лицо руками. Я встал и подошёл к ней.
– Извините, вас кто-то обидел?
Женщина обернулась в мою сторону.
Наши глаза встретились. Её, ярко-зелёные, мокрые от слёз, и мои тёмно-карие.
– Откуда вы знаете, – всхлипнув, спросила женщина.
– Вижу по вашему лицу, – улыбнулся я. Затем достал из сумки, перекинутой через плечо, пачку одноразовых салфеток и протянул их собеседнице.
– Михаил.
– Ольга, – кивнула в ответ женщина. – Она вытащила из маленькой сумочки зеркало. Поправила сбившуюся причёску и вытерла лицо.
– Я могу чем-то помочь?
– Поздно! – бессильно махнула рукой Ольга. – Уже ничего не исправить, он уехал, я не успела на поезд.
– И всего-то… – облегчённо вздохнул я. – Просто позвоните ему и объясните ситуацию!
– Не могу! Он не доступен, наверно выключил телефон.
– Тогда идёмте со мной! – предложил я.
– У вас есть личный самолёт, или вы гонщик, способный догнать поезд? – нахмурилась Ольга.
– Не то, ни другое, но у нас есть время, чтобы всё исправить!
– Правда? – не поверила она.
– Даю вам слово!
Я решительно взял Ольгу под руку, и мы направились к трамвайной остановке. Я посмотрел на часы: без четверти двенадцать. Сейчас подойдёт «седьмой» трамвай. Мы успеем!
Вернуться в Содержание журнала
Меня зовут Денис. Я – старший инспектор отдела нетривиальных проблем.
В тот вечер я шёл по парку, вовсю впитывая отдых, и не подозревая, что судьба уготовила мне экзамен – скорый и безжалостный.
Было что-то около 21:00. В свете фонарей кружились неугомонные мотыльки. Было прелестно.
Но вдруг ударила молния. Ударила из моей переносицы. В ежевичный куст под развесистым дубом.
Через какое-то время я сообразил, что я тут, видите ли, не один. Рядом с кустом стоял некий человек, которого там только что не было. Довольно пожилой. В мешковато сидящем сером костюме-тройке. С пёстрой кошёлкой в левой руке.
Старичок поднял на меня взор. Распрямился в плечах. Запустил руку в кошёлку. Выудил оттуда тонкую книжку в мягкой обложке:
– Не изволите ли посмотреть?
Я взял книжку. Это был журнал «Сокол», 1-й выпуск за 1995 год.
– Обратите внимание на оглавление, – промолвил старичок.
Я обратил.
В глаза бросилось название «Увидеть мир по-иному».
– Не правда ли, знакомый рассказ? – промолвил старичок.
– Начинаю припоминать, – признался я. – Этот рассказ повествует о том, как сотрудник отдела нетривиальных проблем Денис пытается застать врасплох некоего Ненякина, который вовсю занимается запрещённой прикладной эволютикой.
– Вы тот самый сотрудник Денис, – промолвил старичок. – А я – тот самый Ненякин. Вы меня узнали?
– Ни в коем случае, – заметил я.
– Не удивительно, – промолвил Ненякин. – Ведь я нахожусь в процессе закидона в неведомое.
– Ну да пусть, – сказал я. – Не это суть важно. А важно то, что моё отношение к вам за все эти годы вовсе не изменилось.
– Знаю-знаю, – промолвил Ненякин. – С одной стороны, ты ничуть не считаешь меня нехорошим. А с другой – ты не можешь не мешать мне заниматься эволютикой из-за твоего служебного долга.
– Да, – сказал я. – Не могу. И потому предупреждаю вас, Ненякин: воздержитесь-ка от своих закидонов в неведомое.
Ненякин потряс кошёлкой:
– Видишь этот мой несессер?
– Ну вижу, – сказал я.
– Так вот, – промолвил Ненякин. – Он и есть причина неугомонности моих закидонов.
– А, – сказал я. – Понял. Вы имеете в виду, что эти ваши закидоны происходят вне зависимости от ваших желаний? Исключительно из-за присутствия при вас этой живописной сумочки?
– Типа того. И в доказательство сего мы сейчас поучаствуем в одном забавном аттракционе под названием Вечерний Лабиринт, – Ненякин выудил из кошёлки бумеранг, размахнулся и швырнул его куда-то в район павильона-кафе возле аллеи. Подождал эдак с минуту и сообщил:
– Бумеранг не возвращается.
– Это хорошо или плохо? – спросил я.
Ненякин чугунно посуровел:
– Это просто замечательно. Это означает, что Вечерний Лабиринт готов к запуску. А вот, кстати, и он. Вечерний Лабиринт, то бишь.
На первый взгляд, ничего, казалось бы, не произошло. Мир всё так же пребывал в состоянии постоянства. Но это только на первый взгляд. При повторном, более пристальном на него смотрении, обнаруживалось, что мир-то, оказывается струится каким-то необычным образом. Эдакое дрожащее мерцание перекатывалось глухими волнами по всей его распростёртости. Будто круги от упавшего в воду камешка.
Приглядевшись, я понял, что струйность мира кроет в себе зародыш появления из небытия чего-то внезапного. К примеру: тот самый павильон-кафе, к которому улетел бумеранг, подёрнулся серебристыми искорками, рассыпавшимися веером, после чего рядом с ним вдруг возник какой-то человек. Возник как бы из ничего, на пустом месте. Совсем не по-летнему одетый в синий пуховик, треух и валенки.
Человек в пуховике помахал ладошкой издалека:
– Сейчас к вам пожаловал не абы кто. Сам Хрумкин наведался в эти окрестности, где, к счастью, в данный момент и соизволит быть Вечерний Лабиринт.
Я посетовал мысленно на свою неосведомлённость и сказал:
– Да что же это такое, этот Вечерний Лабиринт?
Хрумкин перемялся с ноги на ногу:
– Итак. Кто будет объяснять? Я или маэстро Ненякин?
Маэстро Ненякин заглянул в кошёлку и промолвил:
– Не вижу никаких препятствий к тому, чтобы поведать-таки правду о Вечернем Лабиринте, этом сакральном проявлении неведомого.
– Лады, – сугубо отстранённо произнёс Хрумкин. – Сейчас поведаю. Только перед этим валенки поглажу.
– Не намерен, стало быть? – вздохнул Ненякин.
– Что-то не очень-то и хотелось бы, – подтвердил Хрумкин.
– Ну что ж, – Ненякин водрузил себе на нос пенсне из кошёлки. – Тогда придётся поведать мне.
И он поведал:
– Однажды утром, когда пташки чирикали за окном, я внезапно понял, что дело-то, оказывается, вовсе не в эволютике. Эволютика что? Инструмент для настроя на видение мира по-иному. Не более того. Зато сам предмет видения – вот великое неведомое, достойное внимания. Что мы знаем о другой цивилизации? Ничего конкретного. Лишь то, что она занимает место в параллельном эволюционном измерении. Её пласты – в большинстве своём – нами не просматриваются. При помощи эволютики мы можем воспринять только ничтожные крохи от её целого. Какие крохи? К примеру, Вечерний Лабиринт. Так названо одно из событий, осуществляемых иной цивилизацией. Которое подвластно нашим органам чувств. Мы зрим лишь, скажем, прописные буквы в некоем тексте. Остальные же нами не то чтобы непонятны – они нами вообще не наблюдаемы.
Тем временем пришло некое необычное. Эдакий плавающий экран. В воздухе виделось изображение, похожее на абстрактную картину, которое постепенно менялось, и исподволь утекавшее в сторону, лишь стоило задержать на нём свой взгляд.
– Дело мастера боится, – воскликнул Хрумкин.
– Что он имеет в виду? – спросил я у Ненякина. Тот сжался и промолвил:
– Почему ты воспринимаешь мою речь словом «промолвил»?
Я пожал плечами:
– Так уж получается. Вы только не обижайтесь.
– Ладно. Не буду, – промолвил Ненякин. – Что касается упоминания Хрумкиным мастера, то он подразумевает, что это он – мастер. Непревзойдённый агент из шпионской организации «Аксцендер», занимающейся прикарманиванием новых горизонтов.
– Вот даже как? – сурово свёл брови я.
В таком разе придётся мне свернуть эту их тут лавочку. Потому что, во-первых, недопустимо привлечение прикладной эволютики. А, во-вторых, ещё более недопустимо, чтобы «Аксцендер» запускал свои лапы в невиданные технологии иной цивилизации.
– Да, – промолвил Ненякин. – Эволютика – тот ещё фрукт. Запросто эдак привлекла Вечерний Лабиринт. Который плавно перетекает в Ночной Автобус…
– Ночной Автобус? – встрепенулся Хрумкин. – Это ещё что за хрень?
Ненякин быстренько зыркнул по сторонам. Удовлетворённо тряхнул головой:
– Та ещё хрень. Вот увидите.
Миг наступления смены я прозевал. Внезапно понял, что уже нахожусь внутри автобуса, который едет не спеша по ночному городу.
Автобус ехал. Шпион Хрумкин увлечённо таращился в окно. Ненякин сосредоточенно копался в кошёлке.
Место водителя пустовало. Руль крутился сам. Странно, но это не вызывало никаких опасений. Как будто так и надо.
Хрумкин развесело щёлкнул пальцами:
– Ну и дела! Оказывается, моя миссия круче крутой.
От избытка чувств он подкинул шапку вверх…
Шапка не возвратилась.
Ненякин отмахнулся:
– Перестань! Тоже мне, миссионер выискался. У меня, кстати, миссия поважнее будет.
– Это как? – Хрумкин покосился на потолок. Шапки своей не увидел. Однако ничуть от этого не расстроился.
Ненякин запустил руку в кошёлку. Промолвил:
– Есть у меня одно приспособление. По внешнему виду выглядит как флэшка. Обыкновенная флэшка на 108 Гигов. Однако это вовсе не флэшка. Это контактный заменитель.
Я спросил:
– Расшифруйте, пожалуйста, господин Ненякин, что вы подразумеваете под словами «контактный заменитель»?
Ненякин ещё покопался в кошёлке. Радостно воздел руку:
– Да вот же он! Контактный заменитель, предназначенный для предотвращения неожиданностей. Никакие внезапности не страшны, когда он подключён.
– Ясненько, – хмыкнул Хрумкин. – А как его подключать?
Ненякин поискал глазами:
– Ага! Вот, же он, разъёмчик ладный! Прямо в воздухе торчит. Значит, сюда мы и подключимся.
Я обалдело смотрел, как Ненякин втыкает флэшку в пространство перед собой на уровне груди. И тотчас же вспыхнули огненные буквы сбоку от флэшки.
«ЦАП-ЦАРАПКИ», – возвещали они.
Хрумкин оторопело пробормотал:
– А почему это мы наблюдаем русские буквы? А где же сакральные письмена иной цивилизации?
– Некогда мне тут с вами рассуждать, – промолвил Ненякин. – Вот-вот в ЦАП-ЦАРАПКИ уткнёмся. ЦАП-ЦАРАПКИ – это неугомонное проявление Неведомого. Оно – Неведомое – будет набрасывать на нас свои устремления.
Автобус колыхнулся вправо. Притормозил. Распахнул свои двери.
К автобусу подошли двое людей в синих джинсовых комбинезонах. Они несли сложенную стремянку. Пока они грузились в автобус, Хрумкин принялся причитать.
– Да что же это такое делается? – ныл он. – Почему я, вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь действительно полезным, вынужден торчать тут, ожидая, когда Неведомое снизойдёт до своего появления? Где это я ауру мою не засветил поярче? Когда это я карму мою не подровнял?
Ненякин удручённо промолвил:
– Ну всё! Не убереглись! ЦАП-ЦАРАПКИ вышли из берегов.
– Это как? – спросил я.
– Очень просто. Теперь нас будут преследовать разные навязчивые идеи.
– Например? – потребовал разъяснения Хрумкин.
– Например? – Ненякин вздохнул. – Например, мы сейчас будем вовлечены вовсю в тему спасения нашей цивилизации.
– Мы можем ехать, – подал голос один из людей со стремянкой.
– А чего это вы раскомандовались? – взъярился Хрумкин.
– Это твои коллеги, – промолвил Ненякин. – Под псевдонимами Пардон и Вуаля.
– Я Пардон, – сказал тот, что повыше.
– Я Вуаля, – сказал тот, что потолще.
Тема спасения нашей цивилизации такова, что недопустимо даже касаться её, подумал я. Но если уж она затронута, то необходимо во что бы то ни стало вывести её в благоприятное русло.
И я медлить не стал. Мгновенно приступил к спасению. Для этого прежде всего убедился в том, что мне известно, откуда угроза проистекает. От Пардона и Вуаля. Это мне моя интуиция подсказала. Прямо так и прокричала внутренним голосом. Дескать, данные гаврики причастны. И надо бы их нейтрализовать. Что ж. К этой нейтрализации я и приступил. Прицепился своим вниманием к их стремянке. Понимая, что неспроста она им нужна. С её помощью они намерены уничтожить нашу цивилизацию. Подонки.
– Мы вовсе не подонки, – проверещал Пардон.
– А кто же вы? – хмыкнул Хрумкин.
– Мы всего лишь странники на этом фейерверке Неведомого, – проквакал Вуаля.
Итак, стремянка. Надо её устранить, пока не поздно.
Пока я решал, как это сделать, гаврики шпионы установили её посреди автобуса, поднялись по ней один за другим, и скрылись где-то наверху.
Всё понятно, подумал я. Потолок автобуса – иллюзия. Нету его. Вместо него – лишь видимость потолка.
– Ясно теперь, куда моя шапка подевалась! Там она! На крыше автобуса! – Хрумкин мгновенно подскочил к стремянке, да и сверкнул пятками, метнувшись вверх. Через секунду его в автобусе уже не было.
– Быстрый какой, – прокомментировал Ненякин.
– Я такой! – вновь появился Хрумкин, соскользнув по стремянке на пол. В руках он, помимо треуха, держал пластиковое ведро. – Вдобавок я очень и очень полезный.
– Наверное, твоя полезность заключается в том, что ты приволок средство против гибели нашей цивилизации? – предположил Ненякин.
– Да, – захлопал глазами Хрумкин. – Вот это ведро поможет нам.
– Как? – спросил я. На самом деле мне уже подумалось, что я знаю, «как». Но не спросить я не мог. Необходимо было утрясти детали операции по спасению.
Хрумкин выжидательно уставился на Ненякина. Тот промолвил:
– Надо надеть ведро на башку Пардону или Вуаля. Да и постучать по нему колотушкой.
Ненякин извлёк из кошёлки киянку, воинственно помахал ею.
Я прокрутил в голове возможные варианты развития событий. Остановился на том, где подонки шпионы полностью нейтрализованы.
Так. Ведро пусть пока побудет у Хрумкина. А колотушка – у Ненякина. Я же отправлюсь на поиски гавриков в джинсовых комбинезонах.
И я отправился. Потопал вверх по стремянке.
Смена декораций произошла неуловимо. Только что я был в автобусе, курсирующим по тёмным улочкам ночного города. И вот я уже на высоком травянистом холме.
Я оглянулся по сторонам. А место, оказывается, хорошо знакомое. Чуть поодаль – тот самый развесистый дуб, возле которого я сегодня Ненякина повстречал.
Только вокруг светло как днём.
Я посмотрел на часы на руке. 6:30. Стало быть, утро. Значит, налицо переход не только пространственный, но и временной.
Ну что ж. Пусть.
Я отметил, что стою на верхней ступеньке, находящейся на уровне травы. Кроме этой ступеньки, вся остальная лестница была не видна.
Я спустился по стремянке вниз, и вновь очутился в автобусе.
Что же дальше?
– А дальше – новая надпись у контактного заменителя, – промолвил Ненякин.
Действительно. Светящиеся буквы возле флэшки гласили: «УТРЕННИЙ РЕЙД».
– Что это значит? – нетерпеливо осведомился Хрумкин.
– Это значит, что мы вступаем в эпоху утряски Неведомого. Утряски его в состояние полной безопасности для нашей цивилизации, – Ненякин воинственно помахал киянкой.
– Будем надеяться, что это так, – сказал я.
Немного подождали. Ничего нового не произошло. Наконец Хрумкин произнёс:
– И какие теперь наши действия?
Ненякин подмигнул и промолвил:
– Предлагаю отправиться в утренний рейд. Раз уж о нём нам поведало Неведомое.
– Присоединяюсь, – сказал я. – Предлагаю подняться по лесенке. Потому что там, наверху, утро-то и есть.
– Да, – поддакнул Хрумкин. – Я тоже в этом убедился. Когда там шапку свою возвращал.
Что ж. Не теряя времени, взошли по стремянке в утро. Огляделись. И поняли, что черти, оказывается, не дремлют.
Черти были повсюду. Мохнатые, с рогами, с хвостами. Они деловито шастали по округе, перетаскивая с места на место большие пыльные мешки, чем-то туго набитые.
– Что они делают? – удивлённо спросил Хрумкин.
– Это и ежу понятно, – сердито промолвил Ненякин. – Они готовят тотальный нам конец.
Каким таким образом? Неужели можно осуществить капут, просто двигая мешки? Или не просто?
– Да, – кивнул Ненякин. – Конечно же, не просто. Тут задействованы некие потусторонние обстоятельства.
Необходимо было что-то предпринять. Но что?
Один из чертей приблизился:
– Ничего у вас не выйдет.
Почему? – подумал я.
– Я мог бы набить вам морды, – ответил чёрт. – Но я воздержусь. Потому что этого не потребуется. Ваши установки на реальность и так уже сдвинуты в полосу уничтожения человечества.
Ненякин тяжко вздохнул и опустил глаза:
– Мне искренне жаль. Что я привёл вас сюда, дорогие Денис и Хрумкин. Сюда, в это средоточие негатива. Из которого, похоже, выпутаться никак не получится. Но я в этом совершенно не виноват. Включение эволютики происходит независимо от моего желания или не-желания. Такова, видимо, моя карма – затаскиваться туда, где черти зимуют. Эти лохматые представители враждебной цивилизации.
– Ничего, – подбодрил его хлопком ладони по плечу Хрумкин. – Сейчас я ему «стопой вихря» по харе его поросячьей заеду…
И заехал. Правда, при этом вовсе не в чёрта угодил. Попал своей «стопой вихря» по киянке в руке Ненякина, выбив её так, что она улетела далеко в кусты малины.
– Вот так, – прохрюкал чёрт. – Все ваши поползновения обречены на провал.
– А зачем это вам мешки? – находчиво промолвил Ненякин.
Чёрт трепыхнул хвостом:
– Это вовсе не ваше дело. Но, так и быть, поделюсь. Мешки эти, конечно же, не простые. Мешки эти – запуск оружия под названием «ЗАВЕСА». Обратите внимание на небо.
Обратили. Всё небесное пространство занимали висящие на уровне облаков средневековые замки на скалах.
– Что вы видите? – спросил чёрт.
– Видим странную картину, – хмыкнул Хрумкин.
– О, да! – зашёлся в хохоте чёрт. – Эти замки почти готовы к тому, чтобы обрушиться на землю, придавив тем самым вашу ничтожную цивилизацию.
Почти? – подумал я.
– Почти, – вновь хихикнул чёрт. – Осталось самое малое. Достаточно ещё немного подвигать мешки, и скалы в небе придут в полную боевую готовность.
– Что нам надо забацать, дабы устранить сие зависание? – задал вопрос в воздух Хрумкин, отчаянно похлопывая глазами.
Ненякин вопросительно глянул на меня.
Я кивнул и сказал:
– Сдаётся мне, что всё это – блеф.
И пояснил:
– Как же они собираются обрушивать скалы на землю? Ведь тогда и их самих придавит тоже.
– Не тоже, – невероятно радостным тоном объявил чёрт. – Ведь всё дело в том, что замки эти упадут не сюда, не в данное параллельное эволюционное измерение, а в другое, в котором находится человечество.
– Ну, тогда не знаю, – огорошенно признался я. – В эволюционных измерениях я не силён.
– Всё-то вы знаете, дорогой наш разведчик Денис, – сердито топнул ногой Ненякин. – Давайте-ка, соберитесь. Да и выдайте рецепт спасения Земли.
Я бросил взор на нависающие замки.
– Да! – развесело брякнул чёрт. – Вы правильно туда посмотрели. Дело в том, что уже практически началось. Обратите внимание на то, как скалы начинают сыпаться камнями.
Что же делать? Что же делать?
Что предпринять?
И в этот момент меня осенило. Мне подумалось, что всё сейчас происходящее – результат сдвига нашего восприятия. То есть, мы переместились туда, где новая полоса реальности – другое эволюционное измерение, в котором присутствует иная цивилизация, весьма враждебная. Но ведь этим сдвигом можно управлять. Всё зависит от нашего намерения: как подумается, так и будет.
А подумалось вот как. Пускай-ка враждебность этой иной цивилизации сама себя и устранит.
– И правильно! – промолвил Ненякин. – Пускай!
В данную событийную установку верилось не очень. Но иного выхода не было. Приходилось всё-таки верить.
И только я подумал о благоприятном повороте, как всё и произошло. Из-за ближайшего сарая выбрели Пардон и Вуаля. Они были всецело заняты тем, что отбирали друг у друга оранжевое пластиковое ведро.
Вот Вуаля рывком выхватил ведро. Ловко надел его на голову Пардону. Метнулся к малиннику. Вернулся оттуда с киянкой. И принялся стучать ею по ведру.
– Ой! – завопил Пардон. – Ты что делаешь?
– А фиг его знает, – сурово ответствовал Вуаля, продолжая бить киянкой. – Наверное, что-то подходящее.
– Можно, я скажу?! Можно, я скажу?! – затряс поднятой рукой Хрумкин.
– Можно, – разрешил Ненякин.
– Отметьте, пожалуйста: замки в зените вдруг куда-то подевались.
Я глянул вверх. Действительно. Замков там уже не было. Были барашковые облака в бездонном синем небе.
Чертей тоже не было. Они как сквозь землю провалились.
Тем временем Вуаля перестал колошматить беднягу Пардона. Снял с того ведро:
– Ну, всё. Угроза человечеству устранена. Причём полностью.
Можно было облегчённо вздохнуть. И мы вздохнули.
– А здорово, что я в валенках! – заметил Хрумкин. – Самая пора завалиться с ними на печку.
Я посмотрел вокруг и понял, что в парке находятся русские печки – много, рассредоточенные в случайном порядке.
– Это моя! Это моя! – бросился Хрумкин к одной из них. – Сейчас как завалюсь!
Другая русская печь, расположенная чуть поодаль, показалась мне как-то связанной со мной.
– Да, – подтвердил Ненякин. – Каждая из этих печей соответствует одному из людей.
Я подошёл к своей печи. Заметил, что на её передней стенке – светящийся золотисто объект в виде бублика.
– Это Золотая Суть, – объяснил Ненякин. – В данный момент она пребывает в релаксации. Как и остальные Золотые Сути других печей.
– Ясно, – сказал я. – Своего рода жест доброй воли со стороны иной цивилизации. Как же всё-таки замечательно, что мы сместили своё внимание в полосу, где Неведомое добро к нам.
– Сдаётся мне, что сей сдвиг – не последний в череде таких сдвигов, к которым привела и будет приводить прикладная эволютика, – промолвил Ненякин. – Да. Всегда будет всегда.
Вернуться в Содержание журнала
Потянув на себя массивную дверь, Арт вошёл в комнату и остановился, увидев, что доктор Преториус занят важным разговором.
– Одну секунду! – порхнувшая вверх ладонь изобразила что-то вроде салюта-приветствия.
Арт кивнул и опустился в кресло.
Обстановка кабинета была знакома до мелочей. Бежевые, подсвеченные скрытыми лампами стены создавали ощущение официального уюта, массивная же мебель заземляла фантазию, не давая мыслям воспарить в эмпиреи.
Закончив, доктор Преториус щёлкнул селектором и, улыбаясь, воззрился на гостя:
– Ну-с. Как у нас делишки?
– А вы как думаете?
– Ну-ну, – отреагировал доктор, искоса подмигнув подписчикам, наблюдающим за сеансом через приложение «Психо-Эйфория-в-Дом». Красная лампочка на селекторе показывала, что съёмка идёт на запись. – Фи-фа-фо! Бурчим-журчим?
– Бога ради! Смените пластинку!
– Понимаю…
Преториус поправил галстук. Когда он вновь обратился к клиенту, в голосе зазвучали вежливые, но прохладные нотки:
– Как вы себя чувствуете, господин Артемид?
– Полным дерьмом, – откликнулся Арт.
Взгляд его беспокойно скользил по приемной. Развешанные по стенам дипломы и наградные листы сверкали новёхонькими печатями. Глянец стекла словно усиливал сияние, исходящее от золочёных букв, утверждающих, что хозяин кабинета является дипломированным специалистом в области транс-конфигуративной психодинамики.
– Как ваши успехи?
– Какие успехи вы имеете в виду? – кисло осведомился Арт. – Лепка? Стрит-данс? Вышивание крестиком?
– В последний раз мы подгрузили вам матрицу…
– ХТМ? «Художественное творчество в миниатюре»? Вся моя квартира теперь заставлена микровитринами с росписью яичных скорлупок. По оценке внешней антикварной службы «Эго-Студио» уровень моего мастерства где-то между Молинари и русским Левшой. Они даже согласились взять продукт на реализацию.
– Вуаля! – воскликнул Преториус, обращаясь к невидимым подписчикам, но тут же опомнился:
– Тогда в чём проблема, Арт? Вы художник.
– Ещё и художник.
– И музыкант.
– Именно так.
– Боюсь, я не совсем понимаю…
– Вижу, что не понимаете.
– Ну так объясните, – сказал Преториус, впервые проявляя признаки нетерпения.
– Легко.
Арт втянул воздух. Речь, подготовленная дома, внезапно показалась глупой, да и экран планшета со всеми его лайками, рожицами и грустными смайлами походил на одно большое кривляющееся лицо.
– За последние три недели я освоил три вида искусства.
– Верно.
– По-вашему, это нормально?
– Послушайте, господин Артемид, – в голосе доктора прибавилось холода. – Вы обратились ко мне с известной проблемой. Проблемой нехватки таланта. У вас даже не было хобби! Сейчас же…
– О, сейчас у меня много хобби. И таланта хоть отбавляй. Я пою, играю на цитре и вот теперь эти миниатюры…
– Ну?
– А где известность? – тихо спросил Арт, вкладывая в эти слова горечь души. – Где мой гонорар?
– Но вы ска…
– Я не имею в виду деньги.
– А что…
– Признание. Неужели это так сложно понять?
«Ради чего это всё?» – хотел выкрикнуть он, но и без того сказал слишком много. Зрители терапевтического канала будут в восторге. Ещё один неудачник. Скандальный лузер. С одним исключением: он действительно потратил баснословную сумму – все свои накопления, – чтобы приобрести кучу никому не нужных талантов.
– Будьте контактны, – вяло сказал доктор. Время трансляции заканчивалось, и он начинал терять интерес. – Ведите стрим. Обнародуйте свои достижения.
– А я не пробовал?
«Я перепробовал всё! – мысленно дополнил Арт. – Блоги. Стримы. Видео-дневники и статьи на бирже контента. Я выкупил боковой баннер на главной странице главного портала страны. Я открыл сердце и душу в попытке обрести вес… Но всё зря. Их желудки всасывают, переваривают, разлагают на атомы. А потом выплёвывают – не сказав спасибо. Вообще ничего не сказав! Потребили и выбросили. Как будто нас таких легион».
– Легион, – пробормотал доктор.
– Что?
– Я говорю, вы сами знаете ответ. Людей стало слишком много. Слишком много талантов. Посудите сами. Легко стать звездой на фоне тугоухих и полуграмотных. Сейчас же…
– Ничего не изменилось. Просто тугоухие и полуграмотные получили время и технологии. Обработанный вокалоидом писк какой-нибудь сикильдявки звучит как пение ангела. И если бы дело было только в этом! Но творческие форумы – это какой-то базар. Караван-сарай, где кто кого переорёт, тот и прав.
– Проклятие сытого века, – Преториус послал финальную улыбку в экран и щелчком селектора вырубил запись. – Проклятие и благословение. Какой-нибудь полуграмотный нищий крестьянин полтора века назад имел одну тысячную шанса развить у себя способность к точным наукам. Вшивая маркитантка не могла и помыслить о том, чтобы стать оперной дивой. Вы же свободны от гнёта непредвиденных обстоятельств, Арт. У вас новый, отлично оборудованный дом. У вас есть Пособие…
– Ладно! – оборвал Арт. – Я понял. Не настолько уж неблагодарная я свинья. Но почему другие выбирают то же, что и я? Проклятая мода! До того, как я выбрал и оплатил вам ХТМ, мир фанател по бейсджампингу. Никто и слова-то такого не помнил – «миниатюризм»!
– Люди, – вздохнул доктор, постучав себя по лощёному дюралевому животу. – Вы такие стад… простите, стайные.
– Чушь!
– Плюньте-разотрите, мой пирожочек. Мы придумаем что-нибудь ещё. Как насчёт резьбы по шоколаду? Рисования слюной?
– Идите к чёрту!
– Куда же вы? – воззвал Преториус в исчезающую спину клиента. – Давайте совместно поищем идею.
– Не надо, – бросил Арт, с усилием грохая поролоновой дверью. – У меня уже есть одна. Обойдусь и без вас!
***
Он думал, что сыт по горло всеми этими консультациями, но уже спустя два часа ощутил острую необходимость в общении.
Необходимость обсудить с кем-нибудь свои горести.
– …полным дерьмом!
– Ты драматизируешь, – благодушно заметил Юлий Лепид, вращая ручку древнего арифмометра.
Предприятие «Тантал» производило шпонки для бытовой техники, почти вышедшей из производства. Расчетный отдел, в котором числился Арт, уже три раза был на грани роспуска, но в последний момент учредитель принимал решение продолжить работу.
– Драматизирую? А ты просмотрел мой видеоролик, в котором я разрисовываю ореховую скорлупку пейзажами в стиле Джованни Карновалли?
– Ещё не успел, – признался Лепид.
– Ролик длится всего минуту!
– Да-да, я вчера так замотался. Сам знаешь, все эти форумы, эта раскрутка. Моя собственная вещь «Эра Титанов» не получила и дюжины лайков. Думаю вложиться в рекламу.
– Чудовищно, – пробормотал Арт.
Раздражение, обуявшее его с утра, сгустилось до катастрофической плотности. Он почти с ненавистью взглянул на соседа, меланхолично перемножающего никому не нужные числа. Обезьянья работа! Кто мог подумать, что кривая Аутора превратится в ниспадающую прямую? Перепроизводство таланта! Какая драма сравнится с этой? Перечитывая золотую коллекцию трагедий Софокла, Арт испытывал жгучую зависть к Эдипу и Филоктету – ко всем жертвам сурового рока, не говоря уже об авторе. Эти имена остались в веках.
А что останется после него?
«Я уникален», – твердил он себе, прокручивая страничку с выставленными работами. Уникален, но так одинок! Последние видео набрали ноль просмотров. Мировая Сеть захлёбывалась талантами. Галеристы уже не спрашивали имя художника, издатели черпали контент из бесконечного водоворота свежей буквенной мешанины. Кем нужно быть, чтобы тебя заметили?
Гением? Или же…
– Я думаю попробовать что-нибудь из свежих искусств, – сказал Лепид. – Может быть, векторная нейрографика? Или ольфакторный танец?
Арт сжал зубы.
Именно этим он собирался заняться завтра.
– Бесполезно.
– Почему?
– Проклятая мода! Ты не сможешь пробиться.
– Что ж поделать, – Лепид пожал тугими, как подушка, плечами. – Возможно, однажды кому-то из нас повезёт. А может, и нет. В последнее время я что-то не слышу громких имён. В детстве я мечтал стать знаменитым. Мне мнилось, что я особенный, поцелованный Зевсом. А потом оказалось, что нас таких – целый полис.
Он вздохнул и выключил арифмометр. Внимательный взгляд остановился на лице собеседника:
– Я вижу, ты огорчился, дружище. Тоже хотел попробовать себя в нейрографике?
– Ну нет, – мрачно сказал Арт. – У меня другая идея.
***
После работы он заехал в строительный гипермаркет, где приобрел необходимые мелочи. В пятницу центр города простаивал в пробках. Из окна маршрутного гравитрона доносилась «Паула» – какофоничная песенка, взлетевшая на вершину дневного чарта. Уже завтра о ней никто не вспомнит.
– Как и о многих других, – пробормотал Арт. – Но меня вы попомните!
Хозяин «Сундука Аполлона» встретил его радушно.
– Давно не заглядывал, брат. Что на этот раз? Могу предложить нейро-резец и сплит-пасту, завтра днём с огнём не разыщешь. Ай-вах! – он смачно поцеловал кончики пальцев. – А если надумаешь покреативить, скажу по большому секрету, обрати-ка внимание на запаховую палитру. Двадцать три тона для начинающих.
– Мне это не нужно.
– А что тебе нужно, звезда моя?
Арт объяснил.
– Зачем? – недоуменно спросил хозяин, когда он закончил. – Вай, брат, опасное, опасное хобби! Бризантология давно вышла из моды. Лучше возьми-ка стило от «Прометея»! Синхроническая подстройка, сорокаканальный режим регистрации. Десять паттернов альфа-ритма.
– Плачу наличными, – сказал Арт.
И это завершило дискуссию.
Добравшись до дома, он переоделся, загрузил сумки и сел к окну, ожидая заката. От поляризованного стекла пахло озоном. Мир внизу казался таким маленьким. Люди ползали как муравьи. Их муравьиный вклад вряд ли будет когда-то оценен.
Из подъезда напротив вышел мальчик с 4D-планшетом в руках. Будущий ваятель цифровых дорических форм. Новый Пракситель. Его имя тоже будет забыто.
– Но моё вы не забудете, – посулил Арт.
Он принял решение.
***
В сумерках гига-торговая галерея «Эфес» полыхала огнями как электрический факел. «Услада глаз моих», как выразился бы поэт. Десятое чудо света! Озарённые лучами интерактивных реклам, люди стекались сюда как мухи на мёд. Гроза беспроцентных кредитных карт, этот центр представлял собой Храм приятного и экономически важного потребления.
Опустив голову, Арт замешался в толпу, и та протащила его мимо высоких колонн в зал, где под бесконечно высокими сводами творилось театральное действо, называемое «Вселенский базар».
Перед закрытием людской водоворот крутился экстатически ярко. Арт прижался к стене пропуская вереницу уборщиков и устремился за ними, будто пастух, сопровождающий стадо усердно гудящих роботов.
Вот и подсобка.
Дверь подалась. Он скользнул внутрь, плюхнув на пол тяжеленную сумку. Из груди вырвался стон облегчения. Нитромагнитные шашки весили тонну. Дрожащими руками он вытащил одну и разместил её в шкафчике для салфеток.
Сверяясь с инструкцией, настроил таймер.
– Вы меня запомните!
Зеркальная поверхность отразила скорченную тень, безуспешно пытающуюся стать выше – сколиоз стал настоящим бичом современности. Однако фигура излучала решимость. Арт выдвинул подбородок. С робостью и восторгом он изучал на секунду проявившееся в зеркале тёмное чужое лицо.
Герострат.
Люди стареют и умирают. Тело подвержено тлению. Талант и его овеществленный продукт – лишь след на песке. Но сам ветер – и нога, что наступит на муравейник – пробьёт след в мраморе стылого, беспредельного равнодушия. Кто помнит скульптора, сотворившего Красоту из камней и палок? Его имя утрачено. Имя же разрушителя, словно огненный посох Зевса, будет вечно сиять в веках!
Однако к делу…
В следующие два часа он прикрепил ещё восемь шашек. Этого должно хватить. Колосс на глиняных ногах – здание имело массу дыр и уязвимостей, как и подобает причуде капризного Гения. Взрыв будет заметен даже из космоса. Сам же Арт останется невредимым – он тщательно просчитал силы отдачи и снял на неделю капитальный взлётный гараж, способный укрыть песчинку от бушующих сил природы и рока.
Сохранить для триумфа.
Катастрофа в Век Благоденствия. Поистине светлая мысль! Сам Герострат позавидовал бы такой возможности.
– Ну вот и всё.
Хоронясь от прицела спрятанных камер, он прокрался к выходу и побежал через площадь.
Поднялся на обзорную башню.
***
Стояла ясная ночь. Луна скрылась, а потом вновь вышла из облаков. Бархат неба рассыпался звёздами.
Цокая зубами, Арт трясся от возбуждения. Панорамные окна предоставляли отличную возможность обзора.
– Давай же, – шепнул он, вгоняя ногти в мякоть вспотевшей ладони, – я жду.
Секунда. Две. Три.
А потом…
Оглушительный взрыв!
Недра разверзлись, сразу во многих местах, выбросив столб ярко-алого пламени. Земля ахнула и содрогнулась. Арт вскрикнул: огнеупорные стёкла лопнули и осыпали его электрическим крошевом. Турф-ф! Пол сотрясло чередой взрывов, и башня накренилась – накренилась, но пока устояла.
– Что же это?
Полуослепший, он вцепился в металлический зигзаг ограждения.
Вокруг бушевал пожар. Барабанные перепонки лопнули, когда в ухо вонзился салют многих ракетниц – многих бурь и разрывов. Афины, Нью-Йорк, Джакарта… Пятнадцать чудес света лопались одно за другим. Настал черёд величайших музеев, дворцов, университетов. Буф-ф! Пожар распространялся со скоростью воли, с неотвратимостью вирусного желания. Разогнанная ветром чума тронула Рим, уничтожила Бомбей и Калькутту, расплющила антенны и нефтяные вышки, обнулила информаториумы, библиотеки, культурные центры и деловые окраины…
Когда на востоке страны полыхнула энергостанция, из впалой груди Арта вырвался смех, превратившийся в гомерический хохот.
Он понял свою ошибку.
– Проклятая мода!
Как обычно, светлая мысль пришла в голову не только ему.
Вернуться в Содержание журнала

Пропели третьи петухи. Дом мелко затрясло. Допотопное радио над входной дверью пошипело для начала и загрохотало голосом Левитана:
– Внимание. Говорит дом. Товарищи домочадцы, до выворота наизнанку остаётся четыре минуты. Начинаю обратный отсчёт. Сто… девяносто девять… девяносто восемь…
С чердака по лестнице пулемётной очередью слетели три одинаково тощие белокурые девчонки с подушками и одеялами под мышкой. Сёстры бросили вещи в сторону зияющего подпола в центре дома. Потом одна кинулась к вешалке у входа, дверь которого прибежавший со двора отец уже уложил на траву за порогом. Они вместе сняли плащи, кофты, платки и кепки, схватили обувь, швырнули всё в сторону одеял и рванули к столу, чтобы забрать стулья. Вторая девочка уже собрала расчёски и зубные щётки у умывальника и спускалась в прохладную темень. Третья сестра, налив из ведра воду в пятилитровую бутылку, подхватила у матери узелок с пайком. Девчонка спешно чмокнула в плечо хозяйку дома, сухонькую старушку, стоявшую у горячей плиты с шипящей сковородкой, и побежала к подвалу. Оттуда уже шёл слабый свет, а её сёстры спустили стулья и накиданные вещи. Девочка подала узелок и бутылку в протянутые снизу худенькие руки, коротко обняла отца за шею и начала спускаться:
– Мы вас ждём, папочка.
– Скоро будем, милая.
Мужчина внимательным, но быстрым взглядом обвёл дом, ещё полчаса назад разделённый занавесками на комнаты: его жена уже пристегнула ремнями разноцветные полотнища к стенам, а сейчас бежала с вёдрами от умывальника во двор; причитающая старушка отработанными движениями закрывала на щеколды все шкафчики и холодильник той части дома, что назывался «кухней»; покрывала с прибитых к стене «гостиной» дивана и кресел убраны; лестница «уехала» на чердак; накрытый стол и одинокий стул «столовой» ещё надеялись на дружный семейный завтрак, а хозяйская кровать на колёсиках, обычно спрятанная за плотным балдахином, кричала яркими цветами лоскутного покрывала:
– Про меня не забудьте. Не забудьте про меня!
– Тридцать восемь, тридцать семь, – громогласный Левитан задавал ритм действиям людей.
Жена аккуратно завязала в скатерть всё, что стояло на столе. Муж обползал помещение на коленках, проверяя выдернуты ли вилки из розеток, врезанных в пол, а потом принял из дрожащих рук старушки сковородку с последним блином и горячий чайник.
– Восемь, семь, шесть…
Домочадцы выскочили во двор, отбежали на несколько метров к низенькой скамеечке у края цветущего льняного поля и положили вещи на траву.
– Два, один. Пуск!
Все трое замерли, прижавшись друг к другу. Уже не первый раз они наблюдали, как их жилище огромные невидимые руки выворачивают наизнанку. Будто это не деревянное строение из брёвен, а гигантская вязаная шапка сказочного великана. Нижние края стен бесшумно отошли от фундамента и медленно поползли вверх. В шкафах загремела пластмассовая посуда, в холодильнике что-то шмякнулось, а из умывальника вытекли остатки воды. Узкое зеркало слева от входной двери постепенно отразило сосредоточенных людей, сине-зелёное поле и алый рассвет.
Как только стены поднялись достаточно высоко, муж с женой кинулись вперёд. Мужчина слегка толкнул кровать, и она аккуратно съехала по пандусу на задний двор. Жена в это время закинула стул на стол, и пара бегом вынесла мебель к старушке. Когда она, одной рукой держась за столешницу, а другой – за сердце, тяжело опустилась на скамеечку, муж с женой уже нырнули к девочкам и с грохотом закрыли за собой железную крышку. Через секунду дом резко пошёл вниз и сбросил потолок на пол.
Бах!
Миллиарды пылинок бешено завертелись в лучах солнца. Старушка закрыла лицо руками и задержала дыхание. Ничего не замечавшие до этого момента курицы притихли в сарае, а дом, медленно поднимаясь, выворачивал крышу. Ветер трепал цветастые гамаки девчонок, привязанные к балкам. Розовая ручка с белым зайчиком вместо колпачка больно кольнула старушку в руку и брякнулась на стол. Испуганная женщина открыла глаза и быстро спрятала вещицу в карман фартука. Вывернутый интерьером наружу дом, как опрокинутый штормом корабль в море, перевернулся стойками-мачтами и балками-реями вверх, ветер наполнил гамаки-паруса, и махина плавно опустилась на прежнее место.
– Умница. Сегодня ты никого не зашиб. Давай-ка, придём в себя, – обратилась старушка к дому и добавила уже себе. – Не суетись, но поторапливайся, Фидалия Степановна. За нами могут наблюдать.
Для начала она подняла на стол скатерть. Стоя спиной к полю, хозяйка развязала узел и расправила ладонями каждый угол льняного полотна. Контейнер с яйцами, тарелка с невысокой стопкой блинов, банка с вишнёвым вареньем теснились в середине стола. Оставив рядом с ними одну кружку и ложку, старушка спрятала под фартук лишнюю теперь уже посуду и направилась к дому. Положив её в кухонный шкафчик, Фидалия Степановна торопливо двинулась вдоль стены, проверяя не осталось ли следов ставших родными постояльцев. На вешалке у осиротевшего без двери входа висел только залатанный жилет. В его широком кармане старушка нашла тонкий детский ободок со стразами, который тут же надела на седую голову, заглянув мельком в зеркало.
– Хороша, Фидалюшка. Открытые лоб и взгляд молодят и вызывают доверие. Гостей нужно встречать нарядной.
Затем она внимательно осмотрела диван. Ничего. Со спинки одного из кресел за углом старушка убрала пару длинных светлых волос. Окно с узким подоконником встретило равнодушной темнотой. Морщинистая рука прошлась по треснувшим прозрачным дверкам высоких полок, плотно заставленных книгами:
– Удержали. Молодцы. Такие труды нельзя ронять. Тем более с большой высоты.
На западной стене чёрный экран плазменного телевизора показывал далёкие облака над близким горизонтом родного холма. С этой стороны дома крутой склон упирался в родниковую речку без названия. Её привычное журчание по камушкам успокоило Фидалию Степановну.
– Хоть бы что тебе, да? Домина опять вывернулся наизнанку без предупреждения, а ты и не заметила.
Ветер тронул покрывало выглядывающей из-за старинного письменного стола кровати. Старушка вздрогнула.
– Иду, иду, моя родная. Сейчас проветрим наше барахло, – лепетала Фидалия Степановна, по пути открывая широкий ящик стола. – Проверяйте, товарищи офицеры. Я ничего от вас не скрываю.
Она подкатила кровать ближе к стене и откинула покрывало. Под подушкой оказалась самодельная открытка, изображающая дом на вершине цветущего льном холма и небо с белыми облаками:
«Дорогая баба Фида, поздравляем тебя с днём рождения. Желаем счастья, крепкого здоровья и чтобы куры тебя слушались. Спасибо, что есть ты и твой Дом. Целуем, твои девочки-красавицы».
Фидалия Степановна прижала открытку к груди, осмотрелась и присела на краешек кровати. Розовая ручка с зайчиком запрыгала по открытке, приписывая старую дату «17.06.2039». Затем старушка спрятала всё в фартук и снова огляделась.
– Никого. Пока. Шевелись, поворачивайся, – подгоняла она себя, открывая дверцы платяного шкафа. – И тут я ничего от вас не прячу, господа мои неразговорчивые. Обычные тряпки обычной пенсионерки. Нечего и смотреть. Только стеснять приличную женщину.
Перед поворотом к последней стене, старушка прижалась худеньким телом к прохладным брёвнам с вековыми трещинами:
– Храни их, миленький, старенький мой дом. Эти девочки наша последняя радость. Я постараюсь выпроводить гостей как можно быстрее. Помню, помню, у тебя всё меньше сил сохранять изнаночное состояние. Дай хотя бы пару часов. А если я проглядела что, прибери, спрячь сам, ладно?
Проходя вдоль «кухни», Фидалия Степановна крикнула в сторону оживившегося курятника:
– Птички мои, сегодня у нас гости. Завтрак будет позднее, но зато я покрошу вам свежесваренных яичек. Если, конечно, оперуполномоченные детского розыска всё не съедят.
Старушка вернулась во двор к столу. Льняное поле, уходившее вниз по пологому склону холма, и небольшая роща у самого его подножия притихли, как перед бурей. За деревьями была дорога, соединявшая далёкий город и небольшой посёлок в паре километров отсюда. Чужаки могли прийти только с этой стороны. Но пока никакого движения. Даже пчёлы и шмели не хозяйничали над просыпающимся льном.
Фидалия Степановна выудила из травы остывающий чайник со сковородой и села на стул лицом к полю и рассвету. Кружка наполнилась чаем. Запахи мыты и смородинового листа заполнили пространство нал столом.
В тот же момент из рощи показались два человека в чёрной форме и с чёрными автоматами в руках. Огромные ботинки бесцеремонно вошли в голубое море сонных цветов.
Старушка, сделав два больших глотка, отставила кружку, поднесла сложенные ладони ко лбу и зашептала, сверля взглядом приближающихся людей:
– Зря идёте, товарищи офицеры. Мы с домом всё равно не отдадим вам девочек. Время только тратите. Шастаете уже каждый месяц. И всё без толку. И в посёлок зря едете. Нет там детей. Уж года два ни одного. Уезжайте обратно в свой безрадостный город. Двадцать лет так пугали своих женщин то короной (вирус), то войной, то голодом, то жуткими законами, что они не могут больше рожать. Решайте проблему сами, а нас хватит мучать. Пожалуйста, уходите скорее. Я вас очень прошу.
Удерживая навернувшиеся слёзы, Фидалия Степановна закрыла глаза и начала глубоко дышать: «Я в своём дворе. Мои ноги в тёплых носках и галошах с мехом. Они стоят на родной земле. Высокая травинка легонько щекочет мою ногу. Я сижу на стуле, сколоченном для меня мужем. Царство небесное, Васенька. Видишь? Я в твоей любимой рубахе. Не ругайся. Она да мамина юбка – не самый подходящий для утренней прогулки наряд, конечно. Но мне не холодно. Бешеное сердце качает кровь, не давая озябнуть. Даже ладони вспотели немного. Яркие лучи гоняют какие-то узоры под моими веками…»
Тёмные фигуры заслонили утреннее солнце. Старушка открыла глаза, руки медленно опустились на колени. Она приветливо улыбнулась стёклам чёрных касок:
– Здравствуйте. Прошу к столу. Угощайтесь, пожалуйста.
Тот, что повыше, еле кивнул в ответ. Удостоверение сотрудника детского розыска засветилось на маленьком встроенном в бронежилет экране. Офицер махнул автоматом в сторону дома. Фидалия Степановна поднялась с места. Краем глаза она заметила, что второй сотрудник снял каску и потянулся к блинам. Старушка знала, что смотреть в открытое лицо офицеров нельзя. Отвернувшись в сторону дома, она громко сказала, где можно взять кружки для чая и зашагала вслед за высоким.
– Не знаю, вам ли рассказывала про дом, но, если не хотите слушать, дайте знак.
Высокий остановился и указал автоматом на крышу и вход. Фидалия Степановна знала, что отвечать:
– Наверху – гамаки для работников. Они приезжают из посёлка на сбор льна. Любят ночевать на чердаке. Над входом – советское радио. Ему больше ста лет. Дверь выпрыгнула из петель перед выворотом дома наизнанку.
Офицер медленно обернулся на старушку, осмотрел её с блеснувшего на солнце ободка в волосах до ног в галошах и продолжил идти, а она рассказывать.
– Сами видите, дом странный, — оправдывалась хозяйка и за своё жилище, и за внешний вид. – Так-то обычная северная крестьянская изба. Без печки, правда. Но способная вывернуться внутренностями во двор. Сама решает, когда. Её построил мой дед в 1945 году. Он был инженером-самоучкой. В Гражданскую ребёнком застрял у бабушки на Белгородчине, насмотрелся, как в их хате то белые, то красные стояли. И тех, и других боялся. Не различал. Даже не помнил, кто из них так отлупил его за воровство еды, что дед оглох.
Высокий заглянул внутрь, затем осторожно вошёл в неприветливый полумрак. Фидалия Степановна нырнула следом и, прижавшись спиной к косяку, заговорила громче:
– Во время Великой Отечественной, уже будучи мужем и отцом, дед уступал собственноручно построенный дом то советским офицерам, то немецким, а потом опять советским. Глухой мужик фашистам был не нужен. Малолетнюю дочь и жену деда, мою бабушку, они тоже не тронули, а старшего сына-подростка расстреляли за партизанство. Перед самым отступлением. Осенью сорок четвёртого дед перевёз семью сюда, на малую северную родину, и решил такой дом создать, чтобы никто из солдат его не выбрал в случае новой войны. Место, конечно, хорошее. Холм у дороги между городом и посёлком. Но кто из конфликтующих захочет жить в вывернутых наизнанку хоромах?
Старушка внезапно умолкла: офицер замер в центре дома, вглядываясь в темень под крышей. Он стоял рядом с полосой солнечного света, идущей от дверного проёма и предательски заканчивающейся на том месте, где под рухнувшим потолком была железная дверь в подвал. Фидалия Степановна вспомнила девочек. Сидят сейчас, прижавшись друг к другу, не разговаривают, боятся. В очередной раз старушка напомнила себе спросить их потом, слышно ли внизу тяжёлые шаги чужих ботинок.
Высокий грозно направился в сторону окна «гостиной».
– Уже в этом доме родилась моя мама, а потом я, – осмелилась старушка продолжить начатое. – С самого детства слушала мамины сказки про то, как приближение чужаков с недобрыми намерениями заставляет дом выворачиваться. А своими глазами первый раз я увидела это в 90-е. Муж мой тогда в посёлок к председателю совхоза уехал. Я с двумя малолетними сыновьями ночевала. А из города какие-то бандиты убегали от преследователей. Хотели тут спрятаться, но передумали. Испугались нечистой силы: под крики петухов я к ним из курятника (куда детей успела отвести) лохматой растрёпой с выпученными от страха глазами вышла. За бабу Ягу приняли.
Фидалия Степановна засмеялась, но тут же осеклась: второй сотрудник постучал дулом о дверь на траве. Он жестами дал понять вышедшему из дома напарнику, что пойдёт осмотрит всё кругом здания.
Высокий велел старушке отправляться следом за вторым офицером, а сам пошёл к столу, снимая по пути надоевшую каску.
Фидалия Елисеевна догнала нового собеседника уже на углу дома.
– Как вам мои блины? Вкусные, правда? А варенье? – щебетала старушка не только из вежливости. Она знала, что сотрудникам детского розыска запрещено общаться с жителями посёлков, что переговоры записываются, как в самолётах всё пишется в «чёрный ящик», что каждый слышит и дыхание напарника, и всё, что происходит вокруг. Но Фидалия Степановна всегда спрашивала, почти отчаянно надеясь на человеческую реакцию.
В ответ на риторически заданный вопрос офицер завёл кулак за спину и показал большой палец вверх. Старушка ойкнула от неожиданности. Мужчина не остановился. Он деловито осмотрел кресла, зачем-то постучал дулом по книжным полкам и снова исчез за углом. Фидалия Степановна опять догнала его и, не зная, что и думать о внезапном проявлении сотрудника, продолжила прежним тоном рассказывать про своё чудо-жилище в широкую спину занятого делом офицера.
– Советское государство изобретением деда не заинтересовалось. По заказам знакомых и родственников парочку подобных домов он построил на западе многострадальной белгородской области. Но их уничтожили в самом начале Большой войны. А этот, первый образец и последний оставшийся экземпляр, сейчас ворочается каждый раз, как ваши коллеги приходят в поисках детей и фертильных женщин. Только их тут нет, – скрывая волнение, хозяйка повернула к досмотренному платяному шкафу и деловито закрыла его на защёлку.
Фидалия Степановна провела рукой по прохладным дверцам и краем глаза заметила направленное на неё дуло автомата. Сотрудник медленно увёл его и испуганный взгляд старушки на деревянную табличку у края стены. На ней было написано «ДН-1/1945» и число 10, а под цифрами стояли восемь зарубок: первая еле заметная, пять поярче, а две последние достаточно свежие.
– Ах, это, – выдохнула Фидалия Степановна. – Умеете же вы взволновать, товарищ оперуполномоченный. ДН-1/1945 – это сокращение словосочетания «дом наизнанку», первый экземпляр и год постройки. А 10 – это число гарантированных дедом выворотов дома. Надеюсь, ещё только один раз мой «дворец» выкинет подобный финт и успокоится наконец.
Офицер, не дослушав, щёлкнул ножом. Старушка робко отступила назад, а мужчина, встав на цыпочки, сделал новую зарубку.
Фидалия Степановна обняла себя за плечи и поплелась за уходящим за угол удивительным сотрудником, бормоча под нос:
– Я ничего не понимаю. Но… Я в своём дворе. Мои ноги в тёплых носках и галошах с мехом. Они ступают по родной земле. Слева – мой крепкий дом и любимая его часть – кухня. Справа – курятник. Самое громкое место. Хорошо, что они встречаются только тогда, когда дом вывернут. Я слышу, как петух яростно хлопает крыльями.
И уже про себя она добавила: «Я вижу, как петух яростно хлопает крыльями». Старушка всплеснула руками, а офицер неуклюже захлопнул дверь курятника прямо перед клювом грозной птицы.
– Извините нас, пожалуйста, – поспешила к нему смущённая хозяйка.
Мужчина неопределённо махнул рукой, вернулся к дому и продолжил осмотр. Он распахивал кухонные шкафы, почти не заглядывая внутрь, а Фидалия Степановна закрывала дверцы и говорила так, чтобы не вызвать подозрений у возможных слушателей:
– Я знаю. Вы детей ищете. Последний раз я видела только своих родных внучек. Два года назад. Они у меня гостили на каникулах. Душным летом тридцать девятого дом первый раз после 90-х вывернулся. Мы в тот день пикник у речки с той стороны холма устроили. Вдруг слышу, младшая кричит, показывая на холм. А над ним дом переворачивается. Тогда ещё махина эта собаку мою зашибла. Ваши коллеги забрали девочек. Не дали даже родителям в посёлок сообщить. Вы случайно не знаете, что с нашими детьми, а? По телевизору разных ребяток часто показывают. Судя по всему, они хорошо живут в городском интернате. Сколько не всматривалась, я своих малышек не разглядела.
Старушка вынула из фартука открытку с розовой ручкой, быстро нацарапала два имени и положила на столешницу перед офицером.
– Я понимаю, вам не положено ничего рассказывать. Но… Вдруг вы их увидите. Передайте им привет от бабушки Фиды из дома на голубом холме, пожалуйста.
Сотрудник схватил открытку и быстро спрятал в карман. Фидалия Степановна открыла рот, но пока решала, что сказать, сотрудник ушёл.
«О чём ты думаешь, Фида? – она ругала себя в мыслях. – Что он напишет тебе что-нибудь? Поможет? Успокоит? Он не для этого пришёл. Или думаешь, поел блинов с домашним вареньем, похвалил и другом тебе стал? Своих внучек не найдёшь и этих девочек потеряешь. Осторожнее. Будь осторожнее».
Стук приклада о скамейку заставил старушку торопливо вернуться к столу. Высокий включил инструкцию на экране жилета, и слегка запыхавшаяся женщина, уставившись в буквы, равнодушным тоном выдала нужную информацию:
– Двадцать второе июля 2041 года. Симакова Фидалия Степановна 1970 года рождения. Дом у льняного поля посёлка Кустеньково Вологодской области. Осмотр домовладения сотрудниками детского розыска подтверждаю. Претензий к сотрудникам розыска не имею. Сама детей не видела два года. Если увижу, сообщу по номеру 123. О любых происшествиях, подозрительных людях, молодых и тем более беременных женщинах сообщу по номеру 112.
Офицер погасил экран, и две пары чёрных ботинок шагнули в цветочное поле ровно в том месте, откуда вышли полчаса назад.
– И на том спасибо, – слабо промолвила старушка и крикнула вслед. – До свидания.
Второй поднял в прощании руку.
«Почему он отвечает мне? Из жалости? А может, знакомый какой? Поселковый, верно, парень? Нет, всё-таки это блины. Очень уж они у меня вкусные. Или варенье. Просто волшебное», – старушка горько усмехнулась, провела рукой по нетронутым яйцам, коснулась холодного чайника и вдруг поняла, что промёрзла до костей.
Фидалия Степановна пошла к дому за жилетом. Только она надела его, как радио над входом зашипело. Старушка схватилась за косяк и зашикала в ответ:
– Тише. Умоляю вас, Юрий Борисович. Они ещё близко.
Она вцепилась взглядом в уходивших к дороге офицеров. Будто послушавшись её, Левитан заговорил еле слышно, как из глубины колодца:
– Внимание. Говорит дом. До выворота в исходное положение осталось четыре минуты. Начинаю обратный отсчёт. Сто… девяносто девять…
Вдруг высокий остановился. Старушка быстро отвернулась, шагнула к зеркалу и, продолжая наблюдение через стекло, принялась поправлять ободок на голове.
– Девяносто три…
Офицер развернулся и уставился на дом. Фидалия Степановна поправила ворот рубашки и отчаянно направилась к столу. Сделав вид, что только заметила смотрящего, она прощально помахала рукой.
– Восемьдесят девять… восемьдесят восемь…
Искоса поглядывая в поле, хозяйка принялась рьяно колотить яйца о дерево столешницы, чистить их и причитать:
– Я в своём дворе. Мои ноги в тёплых носках и галошах с мехом. Они стоят на родной земле. За спиной – мой крепкий дом. Передо мной – льняное поле. Каждый его бугорок, каждая ямка знакомы с детства. Я чувствую укол скорлупой. Я слышу Юрия Борисовича. Я дышу глубоко и считаю вместе с ним. Семьдесят… шестьдесят девять…
Второй офицер подошёл к высокому, похлопал его по плечу, жестом показал «Время» и категорически быстро зашагал к роще. Высокий нехотя развернулся и отправился следом, уже больше не оглядываясь.
– Шестьдесят три… шестьдесят два…, – голос старушки обретал уверенность, а руки ложкой крошили яйца в пыль. – Шестьдесят… пятьдесят девять… пятьдесят восемь…
Вернуться в Содержание журнала

Джон Гриди откинулся в кресле, задумчиво глядя на собеседника.
– Фирма «Галактик В. Инкорпорэйтэд»? Никогда не слыхал.
– Весьма вероятно. Мы не очень афишируем свои услуги.
Посетитель с усмешкой смотрел на Джона. Его длинные черные волосы были зачёсаны назад. Такой же иссиня черный плащ необычного покроя напоминал сложенные крылья летучей мыши.
«Чёрный человек» – так охарактеризовал себе его Гриди в первые минуты знакомства.
– Необычное предложение. – Джон задумчиво смотрел на представителя Корпорации.
Джон Гриди был, если можно так выразиться, профессиональным наследником. С помощью нескольких ушлых, хорошо прикормленных адвокатов ему удавалось получить долю наследства не только от дальних родственников, являвшихся для него «седьмой водой на киселе», но и знакомых и даже не знакомых ему людей. Это был весьма неплохой бизнес.
Иногда удавалось заграбастать всё наследство целиком. Как, например, в последней афёре с выжившей из ума миссис Симплисити. В результате её законные внуки отправились в приют, а Джон Гриди стал богаче на четверть миллиона.
Угрызениями совести он не страдал. Так, как начисто был лишён таковой. Бизнес есть бизнес – ничего личного.
Все средства Джон спускал на кутежи и гулянки, справедливо полагая, что глупцов и выживших из ума богатеев на его век хватит.
Но с определенного времени его это не радовало. Джон мечтал сорвать Куш! Чтобы это была афёра мирового масштаба. Всем наследствам наследство.
И тут к нему является Мистер В. – как следовало из его визитки – представитель финансово-почтово-транспортной и др. корпорации «Галактик В. Инкорпорэйтэд» с предложением, которое выглядело совершенно диким.
– Значит, если я правильно понял, вы предлагаете мне любое по размерам наследство в обмен на мою Душу? И, при этом, кроме разового взноса в одну сотню ничего от меня не требуете?.. Звучит странновато.
– Ничего странного. – Мистер В был серьёзен. – Всё без подвоха: Вам наследство, нам Ваша душа. После смерти разумеется.
Он снова улыбнулся. В глубине его чёрных глаз сверкнули искорки.
– Душа.. А вам-то она зачем? Разве она что-то стоит?
Гость пожал плечами.
– Для Вас нет, для нас – кто знает. Мы предпочитаем не выдавать свои коммерческие тайны. Я же не спрашиваю, как именно Вы будете распоряжаться полученным наследством.
– Резонно. – Джон придвинул к себе коробку дорогих сигар, но передумал. – Скажите, а что… потом? Жаровни, котлы со смолой и всё такое?
Мистер В рассмеялся. Голос у него был звучный и приятный.
– Ну что вы? Ничего подобного давно не практикуется. Обычно достаточно нравственных переживаний. Энергия, знаете ли, весьма цена в нашем мире. А психическая энергия человека тем более. В силу её уникальности. Конечно, – продолжил он, барабаня пальцами по столу, – положительные эмоции более цены. Но они так редки, а создать условия для их проявления дело весьма кропотливое и энергозатратное. С негативными эмоциями гораздо проще. По сути, качество мы заменяем количеством. И поверьте, этот товар весьма дорог.
Джон Гриди не верил ни единому слову. Чушь. Да и наплевать, что там будет потом. А вот если ему удастся заработать на этом – весьма неплохо. А потом можно спокойно послать и Мистера В. И его фирму ко всем чертям. Тем более, что договор заключается устно. А если что, то всегда можно вернуть свой единовременный взнос. С процентами. Помощники-юристы у него матёрые. Загрызут любого, только команду «фас!» дай. При чём и в переносном и в прямом смысле.
– Что ж Мистер В., тогда нам нужно обсудить детали.
– Я весь внимание.
– Так вот, меня интересует не просто наследство. Я хочу получить самое большое в мире наследство. Наследство с большой буквы. Самое огромное в истории человечества.
Мистер В на мгновенье задумался.
– Что ж, пожалуй, это возможно. – Он с новым интересом взглянул на хозяина. – А может всё-таки ограничитесь, ну скажем…миллиардом? Это вполне солидная сумма.
В душе Джон Гриди понимал, что это всё не может быть серьёзно. Но в нём уже проснулся дух алчности, удовлетворить непомерные аппетиты которого было не просто.
– Нет! Пусть всё будет так, как я сказал.
– Хм. Тогда, в силу ряда причин и понесенных нами издержек, в договор придется внести коррективы. Вы получите самое огромное в истории человечества наследство. Но и мы будем вынуждены сократить срок вашей жизни. Скажем, лет на 10. Устраивает?
«Болтай что хочешь, – Думал Гриди – Только дай мне денег побольше, а там…»
Ему было слегка за 50. Постоянные гулянки и праздный образ жизни, конечно сказались на его здоровье. Но чувствовал он себя неплохо. А при деньгах и современной медицине жить ещё собирался долго.
– Ну что ж, по рукам! Когда ждать результата?
– В самое ближайшее время, – заявил мистер В. После чего встал и вежливо отклонился.
Прошло три дня. Не смотря на то, что сделка попахивала мистификацией и, скорее всего дело было в «единовременном взносе», Джон Гриди, сам не понимая от чего, нервничал. От переживаний у него подскочил сахар в крови, начало скакать давление, да и ночные кошмары вызывали мучительную бессонницу.
Его лечащий врач, всегда пророчащий ему лет 10-12 при такой разгульной жизни, категорически настоял сдать все анализы, хоть Джон и сопротивлялся.
И вот, когда он уже не сомневался, что всё это глупый розыгрыш, обошедшийся ему в сотню, Джон обнаружил на столе письмо. Как оно туда попало оставалось загадкой.
Необычной формы конверт из золотистого пластика заляпанный почтовыми штемпелями самых причудливых форм. На месте обратного адреса среди непонятных каракулей он заметил слова написанные по-английски: «Сектор 2. Венера»
«Что за чушь?» – подумал Джон. Он вскрыл конверт и достал листы из плотной фольги (или похожего материала) на которых были оттиски текста.
Как и на конверте часть была полной тарабарщиной, но остальные три языка – китайский, русский и английский – угадывались вполне.
«Сектор 3. Господину Гриди. На ваше имя получена посылка из сектора 4. Для получения приложите палец письму и произнесите вслух: «я согласен».
Ухмыльнувшись Джон так и сделал. Фольга немедленно начала морщится, превратилась в труху и, в конце концов, испарилась. Конверт постигла та же участь.
Выходит не врал Мистер В. Однако же! Венера.
Или это непонятное продолжение глупого розыгрыша, или…
Раздумывая над этим, но подвоха так и не обнаружив, Джон отправился ужинать.
Кальмары в сметано-грибном соусе и бокал прекрасного Массандровского вина (Джон предпочитал Крымские вина всем иным) существенно улучшили его настроение.
Через час, принесли конверт от врача. Удержавшись, чтобы не выкурить обязательную вечернюю сигару, Джон вернулся в кабинет. На столе лежала посылка.
Упаковка была из такого же материала, как и первое письмо. Похожего на пластик, но красного цвета. Джон не удивился, прочитав на посылке: «Сектор 5. Марс.»
Посылка была размером с большую шкатулку. Внутри обнаружились знакомые письмена на фольге и небольшая коробочка.
Английский вариант текста гласил: «В результате расследования корпорацией «Галактик В. Инкорпорэйтэд» установлено, что житель Сектора 3 (Земля) № 605748MV/S Джон Гриди, будучи в (нечитаемо) ####-ом колене потомком расы YYYYY является единственным и уникальным представителем древнего рода VVVVV, а следовательно, законным наследником причитающихся им залежей: платины (…. кубометров), золота (….кубометров), иридия (….кубометров)…
Далее шел длинный перечень наименований и цифр, которые Джон уже не читал.
Кровь прилила к щекам, сердце выскакивало из груди. Подумать только. Это будет похлеще бюджета любой крупной державы. Да с такими деньгами он не то, что погасить госдолг США может, а купить всю Америку целиком. Да что Америку – весь мир!
Однако на фольге присутствовал ещё текст, и он принялся читать дальше.
«Несмотря на то, что указанные ценности находятся на значительном удалении, в соответствии с договором корпорация «Галактик В. Инкорпорэйтэд» обязуется предоставить клиенту транспорт для вступления в право владения вышеуказанном имуществом. Прибытие клиента до места старта и обратно осуществляется самостоятельно и за свой счёт
В соответствии с Галактическим Правом, наследник обязан лично (хотя бы на минуту) прибыть на место нахождения наследуемого имущества (Сектор 4. Марс) и произнести вслух своё имя и согласие».
Дрожащим от возбуждения руками Джон раскрыл коробочку, в которой лежало нечто похожее на ключ из меди и золотистая пластина с надписью:
«Скоростной самоуправляемый транспорт для доставки в Сектор 4 подготовлен. Координаты доставки заданы. Ключ активизации прилагается. Вы можете воспользоваться им, незамедлительно, прибыв по адресу: блок65W, сегмент номер 8-а, уровень 13, Атлантида».
Что?!. Джон не веря своим глазам уставился на надпись. Атлантида! Он снова схватил фольгу с письменами.
Чуть ниже очень мелкими буквами была приписка: «Обращаем внимание клиента, что в случае не вступления в наследство в течение 2 оборотов планеты вокруг светила, все права переходят к Корпорации «Галактик В. Инкорпорэйтэд».
Джон не заметил, как выронил нераспечатанный конверт от доктора. Тот самый, в котором с прискорбием сообщалось, что Джон Гриди неизлечимо болен. По самым лучшим прогнозам ему оставался месяц. Максимум два.
А несостоявшийся наследник, задыхаясь, дочитывал документ. Где крупными буквами было написано:
«Галактик Велиар* Инкорпорэйтэд» – всегда выполняет свои обязательства!
_______________________
* Велиар – библейское название темной космической силы, олицетворяющей всякое нечестие и беззаконие. Велиар – падший ангел, выступающий в роли обольстителя человека, свирепый и лицемерный, однако скрывающийся за безобидной внешностью.
Вернуться в Содержание журнала
С курумной вершины высотой 1054 метра многое видится иначе

Остаётся желанной
После длительного, пусть и с перерывами, хождения по горам, замечаешь, что пройдены все известные и доступные «тысячники», и теперь, чтобы совершить восхождение, нужно отправляться в дальние путешествия.
Но собраться и уехать нет возможности, потому что занят делами и начинаешь кружить по ранее пройденным маршрутам, утешая себя, что «вот тогда была зима, а летом ты эту гору не видел».
В это время в Национальном парке Зюраткуль появляются новые, промаркированные тропы, на них собираешься легко и радостно, требуя от незнакомых мест лишь новых впечатлений, одновременно подбирая объяснение непонятным названиям столь притягательных хребтов.
Одна из таких точек – гора Пески, которая сложена совсем не песком и не песчаником, а большими полупрозрачными глыбами чистейшего кварцита.

Очень хочется понять, каким образом к горе Пески относятся «пески»… Сначала собираешься на эту гору в декабре, думаешь пройти, перевалив через другую, тоже новую, вершину – Малый Увал, но из-за большого количества снега дальше Увала не идёшь. И гора Пески остаётся недосягаемой и такой же желанной.
Опять собираешься на Пески, после Нового года, но в этот раз занесена снегом дорога, меняется маршрут, и вместо горы из чистейшего кварцита попадаешь на слюдяные и угольные сланцы Уреньги.

Тогда решаешь сходить на Пески летом. В конце мая на трассе М-5 вовсю идут ремонтные работы, в районе Уреньги пробка, инструктор предлагает дальше не ехать, «ведь совсем рядом тоже красивые высокие горы». Думаешь: «Да что за напасть».
Замираешь от массы
Но затор постепенно рассасывается, автобус движется дальше, и через час с небольшим прибывает в урочище Петропавловка, откуда начинается путь.
Тучки над ближайшими горами не пугают, ведь там, куда так хочешь попасть, сейчас синее небо и солнце. Огорчаешься, когда начинается дождик, и совсем впадаешь в уныние, видя, как снег и крупные градины усыпают дорогу. Прячешься вместе со всеми под какими-то куцыми пихтами, и слушаешь, как обсуждают вариант возвращения. Расстроенно думаешь: «Эта гора меня не пускает».

Но все всё-таки иду дальше, дождь постепенно стихает, снежная крупка на дороге тает, над головой опять синее небо и солнце. Справа появляется высокий курум. По нему поднимаешься до вытянутого узкого гребня, ограниченного крутыми обрывами. Пытаясь найти место для отдыха, обнаруживаешь небольшую, ровную и без уклона площадку, на которую ставишь рюкзак. В этот момент оборачиваешься, смотришь по сторонам, и неожиданно замираешь…

И вправо, и влево, и прямо перед тобой, глубоко внизу и совсем рядом, тонкой рябью, сглаженными склонами, очень медленно ползёт вниз различных оттенков серая мелкая зернистая масса, растворяется в тёмной зелени густого, вскипающего от неожиданного прикосновения леса, поглощает его, сливаясь с барашками дальних гор, облаков, поднимаясь высоко вверх, начинает крошиться острой пылью вниз, на головы, за воротник, так, что не сразу понимаешь, что это не кварц, не песок, а мелкий колючий дождь, сыплющийся из только что набежавшей тучи.

Не сразу понимаешь, что пространство обманывает тебя, на большом расстоянии превращает огромные глыбы в песчинки, а в это время уже втягивает, погружает, как в взвесь, в стремительно образовавшуюся, всё сильнее закручивающуюся воронку из неба, света, тени, вершин, леса и деревьев, высоких и низких облаков, долины внизу, крутого, отвесного склона и неожиданно больших, с вершины напоминающих песчинки камней.

И напрасно инструктор зовёт всех и машет руками, его слова и жесты глушатся камнями, оказываются затянуты и навсегда погребены в глубине огромных, отшлифованных до блеска скал, очень правильно носящих странное имя «Пески».
Вернуться в Содержание журнала
На территории природного парка «Бажовские места», в нескольких километрах от Сысертского озера — истока Полдневой Сысерти, находится невысокая вершина Каслинско-Сысертского кряжа с отметкой 450,3 метра над уровнем моря — гора Копанная.

Ничем особенным она не примечательна за исключением небольшого, но очень доступного и интересного месторождения граната альмандина. Кроме альмандина здесь еще встречаются другие разновидности граната: пироп, гроссуляр, андрадит и спесартин.

Это место у геологов называется Южно-Копанское месторождение. Его открыли в 1966 году во время поисковых работ на антофиллит-асбест. Асбест в нужном количестве не нашли, но поскольку гранат является хорошим природным абразивом — месторождение было зарегистрировано и описано. При его исследовании выяснилось, что гранат-биотитовые гнейсы залегают здесь линзой длинной более 400 метров с мощностью пласта до 15 метров. Несмотря на довольно большие запасы, месторождение признали непромышленным и оно было забыто на десятки лет.

Уже в новом веке, начитавшись геологических отчетов, до местных гранатов добрались любители геологии. Их привлекли довольно крупные коллекционные кристаллы альмандина.

Найти кристалл правильной формы в виде пентагон-додекаэдра это большая удача, но окатанных кристаллов с частично сохранившимися гранями в неглубоких шурфах и на отвалах здесь лежит очень много.

Отправляясь на месторождение нельзя забывать, что это территория природного парка. Добыча минералов без соответствующего разрешения здесь запрещена, но полюбоваться на крупные гранаты и на то, как они залегают в породе можно.

Вершина горы Копанной есть на топографических картах и найти ее при наличии навигатора не сложно. Машины лучше оставлять на берегу Сысертского озера. В сторону горы идет лесная дорога, но она сильно заболочена и лучше пройти пешком — там всего километра три.

Вернуться в Содержание журнала
Наличие воды – характерная особенность перехода
В течение полутора столетий
В самой северной части Свердловской области, в верховьях реки Лозьвы находится очень удобный перевал через Уральский хребет. Расположен он в истоках безымянного правого притока реки Лозьвы на восточном склоне и безымянного правого притока реки Хозьи на западном склоне Уральского хребта. Перевал находится между вершинами, высота которых 988,7 и 996,4 метров (см. карту). Эти вершины на современных географических картах не имеют названия, как и ручьи, стекающие с перевала на восток и на запад. Далее, для удобного понимания текста, я буду называть приток Лозьвы, стекающий на восток, Восточный, а на запад – Западный.

В районе перевала находится небольшое озерко. Характерная особенность перевала – наличие воды от снежников. На других соседних перевалах вода отсутствует. Высота перевала – около 880 метров, а ширина его – почти километр. Сочетание малой высоты и наличие на нём воды делает перевал удобным для перехода через Уральский хребет. На Восточном ручье находится несколько небольших по высоте водопадиков, а также снежников.

Западный ручей является правым притоком реки Хозьи. На современных географических картах этот перевал называется – урочище Поритайтсори. Об этом топониме в течение полутора столетий писал ряд исследователей
Таблица 1 – Характеристика горы разными авторами
| № п/п | Автор | Год | Название | Перевод |
| 1 | Регули A. | 1844 | Poritottne ssäri Porritottne särri | «Сори» – «седловина между двумя горами» |
| 2 | Регули A. | 1846 | Porritottne särri | «Сори» – «седловина между двумя горами» |
| 3 | Юрьев Д. | 1852 | Поритотне-Чахль | — |
| 4 | Ковальский М. | 1853 | Пуратотнэ-Сори | — |
| 5 | Юрьев Д.,
Брагин В. |
1856 | Поритотне | — |
| 6 | Федоров Е. | 1894 | г. Пори-Тотен | — |
| 7 | Варсанофьева В. | 1929 | Большая Порри-Тотне-Сори-Чяхль | — |
| 8 | Варсанофьева В. | 1929 | Малая Порри-Тотне-Сори-Чахль | — |
| 9 | Матвеев А. | 2008 | Порыгтотнэсори | «Седловина, на которую носят борщевик» |
| 10 | Матвеев А. | 2008 | Порыгтотнэсорисяхыл | «Гора седловины, на которую носят борщевик» |
| 11 | Слинкина Т. | 2011 | Пōри-тāйт-Сори | «[Урочище], на переходе поперечного отрога» |
| 12 | Слинкина Т. | 2011 | Порыг-Тотнэ-Сори-Сяхл | «[Высокая]гора у перехода, [где] возят борщевик» |
| 13 | Слинкина Т. | 2011 | Порыг-Тотнэ-Сори | «Седловина, [по которой] возят борщевик» |
| 14 | Карелин В. | 2025 | Порат-Тытнэ-Сори | «Седловина, намокающая от сугробов [снега]» |
Вероятно, впервые такой топоним записал на карте венгерский исследователь Антал Регули, который в 1843 – 1845 годах совершил путешествие вдоль Уральского хребта в поисках Прародины венгров. В 1844 году во Всеволодоблагодатске, со слов манси Алексея Касимова, он составил карту «Область верхней Лозьвы». На этой карте он записал топоним «Porritottne särri». После возвращения из своего уральского путешествия Регули в 1846 году составил «Этнографо-географическую карту Северного Урала…», на которой отмечен топоним «Poritottne ssäri».
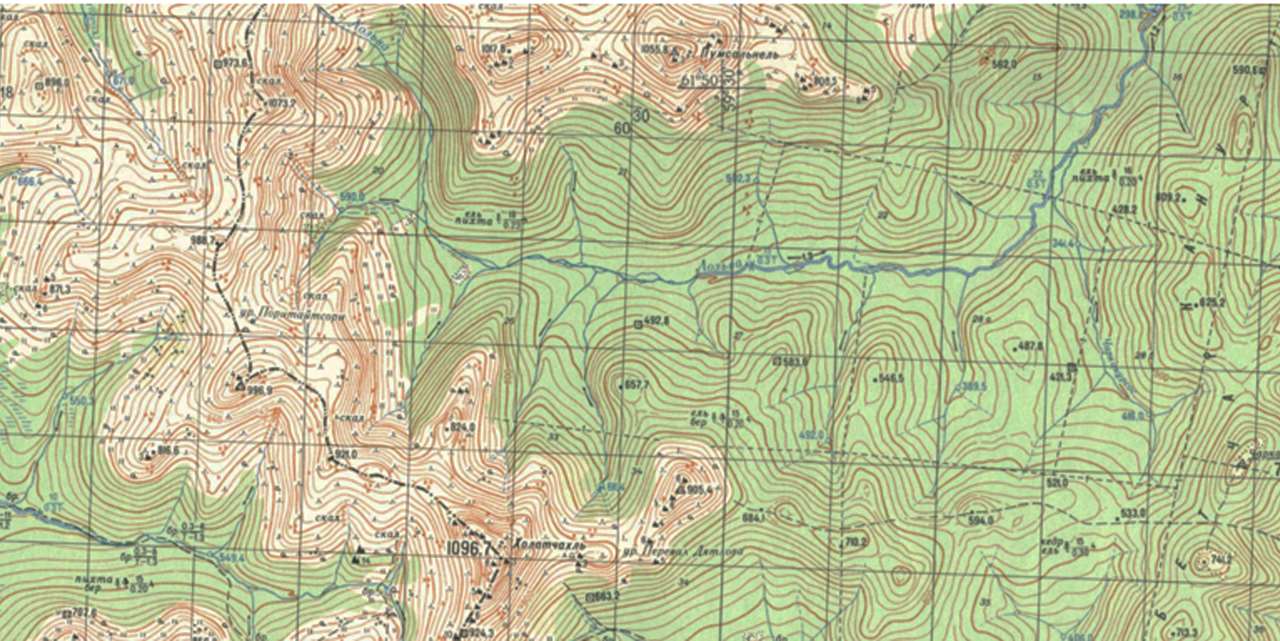
В Венгрии, в Будапеште, в отделе рукописей библиотеки Венгерской Академии Наук хранится архив Антала Регули. Там мне удалось отыскать следующую запись на отдельном листочке: «Porritottne särri. Wogul. Sanka ne jevo krivo idjot, er ist steil…». Большая часть фразы на русском языке, но на латинской графике, а последняя – на немецком языке.
Эту фразу можно перевести следующим образом: «Поритотне сори. Вогульское. Возвышение [въезд] на него криво идёт, он крутой…».
Таким образом, Регули трижды топоним «Поритотне сори» записал без топоформанта, характеризующего гору, а фиксирующего элемент «сори» – «седловина между двумя горами (перевал)». При этом, Регули не раскрыл смысл потамонима «Поритотне».
Исследования и объяснения топонимов
В 1847 – 1850 годах Русское Географическое общество провело исследование Северного Урала. В различных трудах с материалами, полученными в экспедиции, упоминается рассматриваемый топоним. Топограф Дмитрий Юрьев составил «Отчётную карту астрономических определений и маршрутной глазомерной съёмки Северного Урала, произведённых в Уральской экспедиции в 1847 и 1848 годах». На этой отчётной карте рассматриваемый топоним отсутствует. Одновременно, Дмитрий Юрьев издал книгу «Топографическое описание Северного Урала, исследованного Уральскою экспедициею в 1847 и 1848 годах». В этой книге рассматриваемый топоним упоминается в следующем тексте: «…примыкает на севере к горам Холе-Чахль и Гордгангъ-Чахль; в долине их разделяющей находится главный исток реки Большой Уньи, в которую вёрст через 10, обойдя мыс Суомъях-Нёль, впадает река Малая Унья. Далее, от Горгангъ-Чахля, линия разделения вод делает колено около 8 вёрст к северо-западу, и следует хребтами Поритотне-Чахль и Мань-Лундхусепъ-Урръ к главному истоку реки Лозьвы, текущей на восток из озера, заключённого в глубоком обрывистом каменистом ущелье хребта Яны-Лундхусепъ-Урръ».
Здесь Дмитрий Юрьев потамоним «Поритотне» связывает с понятием оронима «Чахль». Однако, другой участник этой же экспедиции М. Ковальский в отчётном томе с результатами экспедиции «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой. Географические определения мест и магнитные наблюдения» записал следующее: «Река Малая Лозьва, соединение всех источников Малой Лозьвы в долине Поритотнэ-Сори».
То есть, Ковальский потамоним «Поритотнэ» не связывал с оронимом «Чахль», а использовал топоформант «Сори» – «долина [седловина]». На карте «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой», составленной топографами этой экспедиции Д. Юрьевым и В. Брагиным в 1856 готу, отмечены потамонимы: «Поритотне», «Горганг-Чахль», «Холе-Чахль». То есть, потамоним «Поритотне» не является названием горы.

В 80 – 90-е годы XIX века на Северном Урале геологические исследования проводил Е. Федоров. По результатам своих наблюдений он составил в 1894 году «Гипсометрическую карту Вологодского Урала и бассейна р. Сосьвы», на которой он указал ороним г. Пори—Тотенъ, вероятно вслед за Юрьевым., где «Пори—Тотенъ» — гора.
В 20-е годы ХХ века на Северном Урале проводила исследования геолог В. Варсанофьева в своей статье «Географический очерк бассейна Уньи», опубликованной в 1929 году, она упоминает две вершины – Большая и Малая Порри-Тотне-Сори-Сяхль. Вероятно, ей, как и Е.Федорову, была хорошо известна книга Д. Юрьева, где записан ороним «Поритотне-Чахль». А детальная информация, имеющаяся у Антала Регули, им обоим была недоступна.
А. Матвеев в нескольких своих топонимических словарях «Географические названия Урала» приводит две формы рассматриваемого топонима: «Порыгтотнэсори» – «Седловина, на которую носят борщевик»; «Порыгтотнэсорисяхыл» – «Гора седловины, на которую носят борщевик». Первая из них соотносится с данными Регули, а вторая частично использует запись Д. Юрьева. При этом, в обоих случаях А. Матвеев произвольно добавил согласную фонему «Г», переведя «Порыг» – «борщевик» (съедобное растение).
Т. Слинкина в своей монографии «Мансийские оронимы Урала» приводит три формы записи рассматриваемого топонима. В первой из них она фиксирует вслед за А. Матвеевым: «Порыг-Тотнэ-Сори» – «Седловина, [по которой] возят борщевик», где «порыг» – «борщевик» + «тотнэ» – «нести, носить» + «сори» – «седловина».
В другом случае, вслед за Д. Юрьевым, она частично использует форму «Порыг-Тотнэ-Сори-Сяхл» – «[Высокая] гора у перехода, [где] возят борщевик».
В третьем варианте она приводит оригинальную форму: «Пōри-Тāйт-Сори». Именно такая форма топонима записана на современных географических картах. Используя такую форму, Т. Слинкина даёт её перевод: «Пōри-Тāйт-Сори» – «Урочище на переходе поперечного отрога», где «пōри» – «поперёк, поперечный» + «тāйт» – «рукав», множественное число от «тагт» – «ветви», в переносном смысле «ответвления, отрасли» + «сори» – «урочище».
В первом варианте Т. Слинкина, вслед за А. Матвеевым, без каких-либо обоснований добавила согласную фонему «Г» («порыг» вместо «пори»). А в третьем варианте странно выглядит замена «тотне» на «тайт» с непонятной логикой перевода (непонятно, о каком поперечном отроге на седловине идёт речь, поперёк которого имеет место переход).

Варианты перевода
Из вышеизложенного видно, что впервые полный перевод топонима попытались дать только в советское время. А. Матвеев А. и Т. Слинкина к «пори», без какого-либо обоснования, добавили согласную фонему «Г» и получили «порыг» – «Борщевик». С такой интерпретацией первой части топонима трудно согласиться. Для перевода второй части топонима «тот-нэ» и Матвеев а. и Слинкина используют основу глагола «тотуꜧкве» – «нести, везти». Третья часть топонима: «сори» – «седловина» – представляет собою более надёжный смысл. Замечу только, что «седловина» относится к горным элементам. В мансийском языке, в основном, в названии горы отражаются какие-то географические её особенности. С этой точки зрения переводы «порыг» – «борщевик» и «тот-нэ» – «нести, везти», как не географические элементы, следует считать неубедительными.
Вариант «Пōри-Тāйт-Сори», предложенный Т.Слинкиной, с заменой «тотнэ» на «тāйт», представляется неестественным, из-за значительной замены состава букв топонима. Поэтому следует поискать какой-то более убедительный перевод рассматриваемого топонима.

Рассмотрим следующий возможный вариант: «Порат-Тытнэ-Сори». Здесь порат «сугробы», где «Т» – показатель множественного числа. «Тынтэ» – глагольная основа от «тытлтаꜧкве» – «намочить» с заменой гласного «О» на гласный звук «Ы», а «сори» – «седловина (перевал)». В итоге получаем: «Порат-Тытнэ-Сори» – «седловина, намокающая [от] сугробов [снега]». Такой перевод соответствует реальной местности перевала, урочища Порат-Тытнэ-Сори. Во-первых, в районе этого урочища всегда можно найти воду, что отличает его от других соседних перевалов. Во-вторых, в районе этого перевала, особенно на его восточных склонах, практически весь летний период сохраняются снежники, питающие водой всё урочище, которое намокает и сохраняет воду.
Рассмотрим ещё одно название горы, склоны которой на север опускаются к седловине «Порат-Тытнэ-Сори». Д Юрьев рассматривает гору Гордганг-Чахль, расположенную севернее вершины Хола-Чахль. Скорее всего, гора Гордганг-Чахль соответствует вершине, которая на современных географических картах имеет высотную отметку 996,9 метров. Т Слинкина записала название этой горы в форме «Хōртхан-Сяхл» и даёт перевод – «[Высокая гора] с гнездовьями коршуна», где «хōртхан» – «коршун, ястреб».

Однако, такой перевод на убедителен: почему же коршуны облюбовали эту гору и устраивали гнездовья на ней, а не на другой горе? Возможен другой перевод. Разделим «гордганг» на два компонента: «Гордганг» = «горд» + «ганг». В мансийском языке согласные «Г», «К» могут заменяться на согласную фонему «Х», а звонкие («Д») заменяются на глухие («Т»). Тогда получаем: «горд-ганг» = «хорт-ханг».
В итоге имеем: «Харт» – «Волок» (с заменой гласной «О» на гласную «А» на базе диалектов) + «хāꜧ» (отглагольная основа от «хāꜧхуꜧкве» – «влезть, подняться») + «сяхл» «гора». Тогда получаем: «Харт-Хāꜧ-Сяхл» – «Гора, [около которой] взбираются [на] волок (на перевал)». Таким образом, вершина Харт-Хāꜧ-Сяхл является своеобразным указателем, передающим информацию о возможности волока, перевала через главный Уральский водораздел в районе урочища Порат-Тытнэ-Сори.
Фото Юрия и Анны Ильенко






